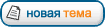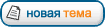а это- собственно то интервью, на которое ссылается предыдущий автор блога с сайта
http://www.stoppard.ru/index.php?p=mpages&id=71#5:
Цитата:
Два главных слова: "искренне" и "знаю"
В № 51 мы начали беседы о режиссерской профессии. Поговорили с Л. Хейфицем, с. А. Шапиро. Дальше мой путь пролег на Театральную площадь, в РАМТ. Меня привел туда не только спектакль "Берег утопии" - центральное событие прошлого театрального сезона. Меня интересовал и сам РАМТ, "московская Швейцария", мирно живущая под руководством Алексея Владимировича Бородина уже не одно десятилетие. В нынешнее время это и впрямь какой-то "берег утопии". На берегу мы и сели поговорить после спектакля…
Марина Дмитревская. Алексей Владимирович, что такое в Вашем понимании режиссура и какие изменения в составе профессии Вы наблюдаете последние годы?
Алексей Бородин. Если опустить общую часть, которая связана с вопросом, что такое театр и для чего он, и отвечать конкретно, то мне всегда представлялось, что режиссура – именно профессия. Это прежде всего.
Но кто такой режиссер – композитор или дирижер? В молодые годы мне надо было понять автора как кого-то близкого: как отца, как дядю… И когда я ставил свой дипломный спектакль "Стеклянный зверинец" - прямо возненавидел этого Уильямса, я смотрел на его фотографию, вглядывался в лицо, а оно было такое непроницаемое!.. Конечно, я читал все пьесы, но мне было нужно, чтобы он сам открыл мне себя… Контакт с автором в итоге оказался важнее всего. Если я ставил Брехта (и грандиозная книга Льва Копелева перевернула тогда мое сознание), мне нужно было почувствовать себя вместе с Брехтом. И так дальше. Поэтому сейчас я уже могу сформулировать (при том, что я знаю – Мейерхольд был автором спектакля…): режиссура, скорее, работа дирижера. Индивидуальность Мравинского или Караяна, знаете ли, нисколько не умалялась той музыкой, которую они играли. Я застал концерты Мравинского, и мощь, которая шла от него в момент проникновения в музыку, рождала какую-то новую силу. Никогда не забуду первый концерт Рихтера. Я сидел очень близко. И когда он вошел, я увидел руки молотобойца. Как у Родена. Огромные лапищи. Он их поднял, опустил – и эти лапищи извлекли звук такой нежности!
Режиссура сродни этому, и профессиональное в режиссере должно быть именно это. Ниспровергатель Стравинский говорил: я люблю классический балет, потому что "там торжество правил, а не произвола". Эти слова когда-то произвели на меня впечатление.
Профессия режиссера состоит из ряда всем известных этапов, начиная с работы над текстом. Когда мы учились у Завадского, он как-то позвал нас с сокурсником домой и три часа разбирал две строчки сцены Смердякова и Ивана из "Братьев Карамазовых". Это оказалось самой сильной и серьезной учебой, я получил больше, чем за все годы, было полное впечатление, что ты слепец, который начинает чувствовать сперва строчки, а потом то, что за ними.
Законы композиции, пространства – это правила, их надо знать. Тем более если индивидуальность режиссера такова, что он собирается эти правила нарушать. Никакой Пикассо и Кандинский не были бы собой, если бы не прошли каторгу школы. У нас в ГИТИСе был прекрасный педагог Левертов, тоже нарушитель правил. И он всегда говорил: "Школа должна быть консервативной". Мне кажется, что сейчас утрачен интерес к этому консервативному процессу, к проникновению в произведение. У меня есть, например, собственные "приколы", я знаю, что лично мне надо много на что ответить, прежде чем начать "щупать" спектакль. При этом интуицию свою я не убиваю, она идет параллельно. Вообще любая система нужна только для того, чтобы начала работать интуиция.
Сейчас у меня третий актерский курс. Я говорю им: "Ну, давайте!" - а они отвечают: "Вы же два года держали нас в узде…" Я объясняю им: "Вас надо было долго держать в узде, чтобы это знание потом в вас взорвалось. А если с первого курса кидаться в разные стороны – толку не будет".
М.Д. И что Вы наблюдаете в режиссуре сейчас?
А.Б. Как и все режиссеры, я редко хожу в театр, просто нет времени…
М.Д. А мы-то, бедняги, ходим и ходим…
А.Б. Да, вы бедняги. А я ведь смотрю как? Если вижу, что пьеса не разобрана (при том, что я открыт любым решениям), даже если это талантливо, но непрофессионально, - тут я начинаю сбоить..
М.Д. Но ведь сейчас в зал приходят зрители, которые оторвались от сериала, где уж точно ничего не разобрано. И способны ли они оценить тонкость, полутона?
А.Б. Зрители наши очень разные. И они должны иметь право выбора. Особенно молодые (с ними связан наш театр). Есть огромное количество людей, которые сериалы не смотрят. Театр – искусство для зала в семьсот человек, это очень немного, сюда приходят те, кто хочет прийти. И эти немногие имеют право на то, чтобы все было сделано на чистом сливочном масле, как говорил Корогодский. Они имеют право на полутона. То, что развивается, - будет развиваться, от сериалов мы никуда не денемся, они будут идти, и огромное количество людей будет их смотреть, но драматический театр (и это моя основная идея всю жизнь) создан, чтобы противостоять тому, что происходит вокруг. Я стараюсь идти именно так. Когда казалось, что воздух затхлый, что дышать нечем, из всех пьес мне захотелось поставить "Ловушку" - нескладную пьесу, которую принес Юра Щекочихин. Но она была такая живая! И я понял: она со временем не соприкасается, она с ним в конфликте.
Откуда возникла "Береника"? Тоже на сопротивлении времени. Я много раз уже рассказывал, что в начале 1990-х Театральная площадь, на которой стоит наш театр, превратилась в рынок, тут продавали сгущенку, трусы, нижнее белье. И меня сильно ударило: привезли последнего Садовского хоронить в Малый театр, внесли гроб, а катафалк остался – и тут же на этом катафалке разложили трусы и сгущенку. Это был такой мощный образ! И как же в это время не ставить Расина, именно Расина! "Береника" стала нашим несогласием, протестом.
История российского театра, начиная с Художественного, стоит на этом. Вообще, Художественный общедоступный театр для меня все, просто все: он был создан ко времени, а на самом деле вопреки времени. "Художественный" и "общедоступный" - казалось бы, два несовместимых слова, но я понимаю это сочетание так: демократизм театра в том, то он открыт навстречу людям, но исключительно в плане несогласия, чтобы не превращаться в обслуживающую организацию (все равно, что обслуживать: советскую идеологию или нынешнюю ситуацию).
Если нет драматического конфликта – нет спектакля, нет художественного произведения. Если у театра нет конфликта с чем-то в жизни, с общей ситуацией – нет театра.
М.Д. Как говорил Вахтангов, "не отражай эпоху"?
А.Б. Конечно, не отражай! Но для этого надо воспринимать окружающую жизнь нервами. Сейчас московская жизнь понятна, все стремятся к стабильности, комфорту, и слава Богу, но это переходит в душевную стагнацию.
М.Д. Вы поставили спектакль "Берег утопии" о становлении российской интеллигенции. Мне кажется, мы переживаем первый исторический период, когда нет противостояния интеллигенции власти. Все прикормлены.
А.Б. Да-да-да. Но если власть должна стремиться к порядку и стабильности, то театр как раз не должен! Наоборот. Потому что в этот момент все становится бессмысленно.
М.Д. На это вам скажут, что в наши залы приходят усталые люди, которым нужно отдохнуть, они хотят "эмигрировать". И наш театр начинает плясать-развлекать.
А.Б. И пусть эти люди идут отдыхать в бульварный театр, они имеют на это право. Но рядом должны существовать другие театры, куда придут другие люди. И среди молодежи я вижу очень многих, которым нужно другое, они приходят и говорят: "Спасибо, что вы к нам как к людям относитесь". Ведь все мы хотим, чтобы к нам относились как к людям.
М.Д. "Берег утопии", как когда-то "Аркадия" в БДТ, - самое верное доказательство этому. Стоит дикий хвост желающих попасть на девятичасовые филологические, идеологические, философские разговоры…
А.Б. Я не знаток современной драматургии и не имею права говорить, но из того, что я читаю, Стоппард дает такой потрясающий урок не только в плане умения делать пьесы, не только в плане человеческих поступков (он мчится в Белоруссию, где ущемляются права человека. Вот какого рожна ему там надо в его семьдесят лет?) – он дает урок потрясающего знания театра. Он знает то, что знали Гоголь, Островский и Чехов как некий инструмент.
М.Д. Недаром он переводил "Чайку".
А.Б. А сейчас переводит "Иванова" и все время задает вопросы: почему так говорит Боркин, почему так… Мы переписываемся. Так вот, Стоппард знает грамоту театра – это он-то, создавший совершенно новое направление в театре! Но знает театр от и до. И поэтому имеет право распоряжаться театром так, как ему нужно. Ну чего ему было сидеть пять лет в лондонской библиотеке, основанной Диккенсом, и годами изучать источники, о которых он прочел у Исайи Берлина? Может, хватило бы полугода, чтобы что-то понять? Нет, ему надо разобраться до конца, чтобы потом начать строить свои свободные, вольные композиции. Он освободился: он знает. Так же и режиссер: он освобождается, когда он знает!
Когда я делал в Исландии спектакль, один артист сказал: "Я усвоил два ваших главных слова: «искренне» и «знаю»". То есть я могу быть искренним, самим собой, когда знаю. Тогда я не должен подлаживаться ни под зрителя, ни под власть.
Время сейчас, может быть, и неплохое, оно дает режиссерам новые задачи. Для того чтобы удерживался репертуарный театр, артистам должно быть в нем интересно. Удержать можно только этим, больше ничем. Тогда они начинают от чего-то отказываться или совмещать. Сашу Устюгова, который играет Тургенева, уже во время репетиций Дуня Смирнова пригласила на роль Базарова. Четыре серии. Что я могу сказать? Но честность его была такова, что с вокзала, со съемок он приезжал в театр и каждую свободную минуту работал. И все совместилось: ему было клево играть Тургенева и Базарова одновременно.
М.Д. Деньгами в театре действительно ничего не сделать. Провалившийся в нашем "Балтийском доме" так называемый "эксперимент" - тому свидетельство.
А.Б. Все наши молодые очень востребованы, но четко понимают, что чего стоит. Полтора года мы делали "Утопию", и часто в буфете я слышал: "Ты прочел Анненкова? Дай мне". Все попали в круг содержательного участия, наконец-то прочли (включая меня) "Былое и думы" от начала до конца, а не кусками, а дальше оказались в поле новой драматургии. Это было такое счастье! У нас, русских людей, самый серьезный минус – отсутствие самоиронии. Мы настолько серьезно к себе относимся!
М.Д. Но ведь и ваши герои (Белинский, Герцен, Бакунин) относились к себе очень серьезно…
А.Б.Да, и они серьезно, и мы серьезно, а спасительно только чувство юмора. Им спасались и Кнебель, и Павел Александрович Марков (они говорили мне об этом), и вот, попав в стихию Стоппарда, мы попали в спасительную стихию юмора.
М.Д. Нашей современной драматургии как раз юмора не хватает, сплошной пафос…
А.Б. Знаете, ведь уже на первой читке все стали смеяться. Двойную игру Стоппарда при чтении глазами не распознать, текст рассчитан именно на произнесение. Стоппард говорил, что и в Англии артисты жаловались: "Это не произнести", - а он говорил им: "Повтори это двенадцать раз – и все получится". Это действительно так. Как только ты все знаешь – текст начинает лететь. Это особая, суперновая драматургия, хотя все переклички и, скажем, чеховские "отражения" очевидны. Ведь что сделал Чехов? То, чем живут герои, и то, что переживает зритель, - разные вещи. Это потрясающе, и эту технику тоже надо понять.
М.Д. Стоппард каким-то образом предусматривает идущую параллельно спектаклю твою внутреннюю духовную жизнь. Она идет не отдельно, а именно параллельно.
А.Б. Совершенно точно! И он это интеллектуально предусматривает, это его драматургическая техника. Какое удовольствие находить все его потрясающие "арки" и маленькие "арочки", отыскивать, как кинутое в первой пьесе откликнулось в третьей, и так далее. И, конечно, расчет на эту параллельность зрительского восприятия.
М.Д. Знаю по нашим артистам, игравшим "Аркадию", - довольно долго им чего-то не хватало после полугода репетиционной жизни под стоппардовским "куполом"… Алексей Владимирович, а что вообще происходит с артистами? Все так же, как всегда, или их нынешняя несосредоточенная жизнь сказывается? Конечно, работа над Стоппардом не может не вызывать сосредоточенности. Но ведь "Берег утопии" - не каждый день… и порой театрам трудно собирать людей на репетиции.
А.Б. Вы знаете, все это есть, но их занятость тоже надо учитывать, они ценят, когда театр входит в проблемы их материального положения. Я свою репертуарную часть настраиваю на понимание. Вообще все зависит от ума артиста, от его головы. В репертуарном театре есть возможность репетировать, они, мне кажется, это очень ценят: этого не получишь ни в каком кино, ни в какой антрепризе. А если у актера есть хоть какая-то голова, он понимает, что надо репетировать. Иначе во что они превратятся? Собственно говоря, ради этого и ради выражения неких смыслов и существует театр.
С актерами происходит "проверка на вшивость": кто-то отпадает, но я всегда за свободу выбора, и один выбирает одно – другой другое. У одного нет конца заработкам – и на здоровье, отпустите его восвояси. А если человек может совмещать и понимает, что чего стоит, - замечательно. Мне кажется, наши ребята понимают и чувствуют, что за работу на стороне не должно быть уж совсем стыдно. Знаю, что отказываются и от выгодного… Все сейчас в нашей жизни, примитивно говоря, поделились пополам, выбрали разные пути. Все делится пополам и в случае с артистами.
М.Д. А нынешний Ваш курс? Есть что-то новое? По своим я, скажем, вижу, что происходит катастрофа с "великим и могучим" и год уходит на приблизительное овладение русской словесностью…
А.Б. На первом курсе я очень много с ними общаюсь, много разговариваю о том, о сем. Смешно отбирать на это время у мастерства, но я отбираю. Вот рядом Консерватория, сходите, потом расскажете… А когда начинается только учеба, они просят: давайте соберемся, мы давно не говорили.
У них есть, мне кажется, открытость, несмотря на то, что на курсе много взрослых людей. Просто надо не уставать, и если я не успеваю следить за тем, что они смотрят и читают, я чаще всего виню себя. Помимо изумительного погружения в методику (я обожаю этот процесс, люблю разбирать основы профессии и прокладывать для ребят "взлетные полосы" не меньше, чем ставить спектакли!), надо больше общаться. Конечно, вся проблема в интеллектуальном и культурном уровне, этих «успехов» мы добились, и ничего тут не сделаешь. Но ребята готовы брать – и тут все зависит от педагога: или мы им даем удобные азы профессии, некие отмычки, либо нужно сделать что-то, чтобы они чувствовали себя художниками. Я им много рассказываю, что было нужно, например, Михаилу Александровичу Чехову, чтобы сыграть то-то и то-то, почему он так мучился… Чтобы чувствовали. А Станиславский!
М.Д. Про Станиславского, по сути, и написан "Берег утопии". Про судьбу идей…
А.Б. Когда мы репетировали последний монолог Герцена, я как раз говорил: в конце жизни Станиславский вставал и каждое утро начинал писать. По рукописям видно, как постепенно уходили мысль, почерк… А утром он снова встает и начинает писать эту свою систему. Мысль уходит, уходит… а ты ее пытаешься остановить. Вообще Станиславский – это что-то!
А про утопии… Утопией было, например, создавать репертуарный театр в том понимании, в каком он во мне, например, живет. Можно оставить это дело и просто выпускать спектакли, но мне дорога идея сообщества людей (со-участия, со-единения), когда люди могут хоть где-то собраться вместе. Я говорю: ребята, мы должны так играть, чтобы люди завидовали тому, что мы можем быть вместе. Ведь это уходит совсем! Театр – это броуновское движение, его надо учитывать, театр не должен превращаться в тимуровскую команду, но должна быть и центростремительная сила, взаимоуважение, в том числе со студентами. Только надо все делать честно.
Театр – самое бескорыстное дело изо всех, что есть на белом свете. Выходить каждый вечер и отдавать все! Это так же, как мы каждую ночь умираем (сон – уход в смерть), а утром набираемся мужества снова жить. Нет ничего бескорыстнее жизни – и театр отражает это точнее всего. Живое существование артиста на сцене – бесценная штука. И только это может удерживать актеров в театре. Ведь у нас всех, русских людей, очень слабое самосознание, а театр помогает его укреплять. И "Берег утопии" очень помогал и помогает в этом смысле.
М.Д. Знаете, это спектакль, который очень укрепляет духовно, идейно… Алексей Владимирович, а какие позитивные впечатления у Вас вообще от театра последнего времени?
А.Б. Я был так счастлив, посмотрев спектакль Евгения Каменьковича "Самое важное"! Мне понравилось все. Это настоящая совместная работа. Дивный театр! Не назидательный, не указующий…
М.Д. У вас много молодого зрителя. И по сегодняшнему залу видно – замечательного… Это так?
А.Б. Зрители есть разные. Но на наши спектакли приходят все лучше и лучше. Сделали Акунина – пришли акунисты, потрясающий народ: способны увлечься интересной историей, но интеллектуально крепки и могу считывать ассоциативный ряд, исторические реалии. Когда они сюда повалили – это была такая радость! А когда они приходят – они остаются. Кроме того, в ауре этого театра что-то есть… Приходишь так ночью…
М.Д. Ходят? Мария Осиповна приходит?
А.Б. И Мария Осиповна, и Олег Николаевич, и Анатолий Васильевич. А Михаил Александрович и весь МХАТ Второй?.. То есть у нас есть некая обязанность. В конце концов, понимаете ли, это Москва. Вот я работал в Исландии, для них Москва – театральная Мекка. До сих пор. А мы вообще – на Театральной площади! Конечно, бывает боязнь показаться немодным, непродвинутым, но ее надо гнать. Во всех случаях, я уверен, надо оставаться самим собой. Хороший, плохой, но я есть. Другой задачи у людей нет – только сохранить себя.
М.Д. Господь недаром каждого создал неповторимым.
А.Б. И в нашем якобы бурном мире надо иметь мужество и ответственность сохранять себя. Тогда возникает поле.
М.Д. И все время надо топить печку. Это я понимаю и по журналу.
А.Б. Да, и это еще третья история: театр требует работы каждый день. Надо вкалывать. И хотя репертуарные театры устроены сейчас не самым умным образом, самое глупое, что можно сделать, - порушить репертуарный театр. Нужны просто внятные контракты, нужна честность – вот и все. Можно все устроить. А все делается бесчестно. Надо бы собираться группой людей и думать, а не шуршать под коврами. Должна сохраняться ватага, ее надо беречь, с ватаг театр начинался. Но никто ни с кем не советуется! Со мной, например, лично – никто и никогда (это пример). Что такое сейчас СТД – не знаю, но надо работать с людьми, которые что-то понимаю хотя бы по должности.
М.Д. Нас берут голыми руками в отсутствие идей и людей…
А.Б. Как ни странно при чудовищной советской системе находились люди, которые нами, молодыми режиссерами, занимались. Я поехал в Смоленск, и как любил меня (а я его) Александр Семенович Михайлов! Заняться бы чиновникам проблемой перехода режиссеров из института в театр, а не всем тем, что они называют реформами и экспериментами. Это работа кропотливая и долгая.
М.Д. Этим не занимаются и потому, что никто не хочет рисковать, всем нужен успех.
А.Б. Ведь Нина Чусова первый спектакль "Герой" сделала у нас. Коля Рощин сделал замечательного "Короля-оленя", Костя Богомолов… не хотел, чтобы они отрывались, но что сделаешь…
М.Д. Чем Вы пополняете "аккумуляторы"?
А.Б. Я, конечно, человек семейный. У меня жена, дети, внуки. Внуки – это страшная сила. Замечательные ребята: тринадцать, шесть лет и три года. Так подзаряжаешься! И если ты здоров (а всем надо желать только здоровья), надо учиться управлять своей энергией (я этому учу и студентов). Когда ты отдаешь – ты взамен получаешь. И появляются дополнительные силы.
Или посмотрел немецкий фильм "Время других". Не видели? Посмотрите. Потрясающий артист. Такие удары нужны, их ищешь. Однажды я провел шесть часов в зале Рембрандта в Эрмитаже. Попал в такое поле, что времени не заметил. Это было немыслимое впечатление (может быть, это излишне красивая картина для примера…).
Студенты, которым я говорю: у меня больше шкурного интереса приходить к вам, чем у вас ко мне. Стараюсь как можно больше приходить на первом курсе. И так сильно подзаряжаюсь, они такие мощные!
Артисты наши… Конечно, музыка, конечно, чтение. А то время, что мы провели со всеми этими людьми на "Берегу Утопии", - это был период требовательной литературы…
Но на все это нужно время. Дефицит суток.
М.Д. Поразительный факт: я могу подписаться подо всем, что Вы сказали. Спасибо большое.
Петербургский театральный журнал