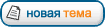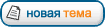отсюда -
http://magazines.russ.ru/vestnik/2008/22/vas27.htmlне помню, чтобы такое было:)
Цитата:
Светлана Васильева
Эффект бумеранга или ниоткуда с любовью
версия для печати (55133)
« ‹ – › »
Нынче любят слово «проект» — бросок в будущее, с целью создания некоего коллективного продукта или изделия, имеющего общественную ценность.
Теперь даже брат-писатель пытается работать в ногу со временем, потому как его индивидуальное «творчество» мало что значит, например, для издательств: у тех если не своя погоня за чистоганом успеха, то собственные проекты. История со Стоппардом тоже вроде бы подпадает под такой разряд. Широкомасштабный культурологический проект, инициатором которого выступил РАМТ (Российский академический Молодежный театр) имел прицел общеобразовательный и сопровождался в течение 2006-2007 годов встречами в ведущих вузах Москвы, конкурсом студенческих работ, круглыми столами с привлечением известных историков, политологов, философов.
Интерес к будущей театральной премьере, девятичасовой трилогии «Берег Утопии», рос как на дрожжах, подогреваемый появлением самого автора, всемирно известного драматурга и сценариста Тома Стоппарда. Он принимал участие во встречах и репетициях, путешествовал на реально существующий «берег утопии»: в музей Герцена на Сивцевом Вражке, в бывшую усадьбу Бакуниных Прямухино, что в Тверской губернии. Там и разворачивается действие первой пьесы трилогии, «Путешествия». Там и произошло в том же году, с небольшим временным разрывом, до сих пор не раскрытое убийство местного священника. По одной из версий, он выступал против самогоноварения слаборазвитым населением. Словом, совсем как романах, жизнь шла своим чередом…
Так, в сущности, и должен делаться настоящий проект, обрастая жизненными подробностями и общими интересами. К тому же театр — искусство изначально коллективное, площадное; только вот чем оно нас зазывает, каким образом захватывает, окончательно становится ясно лишь на премьере: «здесь и сейчас».
…В спектакле всё, действительно, начинается с проекций. С тех точек, по которым собирается какая-то пространственная фигура — может совпасть, а может и не совпасть с нашим реальным пространством Москвы, Петербурга, Лондона. В зазорах и творится театральная игра. Дело в том, что у Стоппарда менее всего нам заданы «драма идей» или литературная парабола, как поспешили окрестить «Берег Утопии» некоторые критики. Это задание попросту не покрыло бы исторического замысла и не открыло сильно «замыленный» глаз российского зрителя, уставшего от бесконечных телешоудебатов (замечу, что как раз в этом и состоял промах спектакля К. Гинкаса «Нелепая поэмка», озвучивавшего не притчу, а идеи Великого Инквизитора Ф.М. Достоевского в рамках ТЮЗа).
Сам Стоппард так формулирует свой давний принцип: «…основной заботой автора остается эта особая форма, когда множество людей сидят в большой комнате, глядя на несколько других людей, которые притворяются кем-то еще (выделено мною — С.В.), и для тебя важнее всего — просто удержать в этом жизненную искру, а потом заставить ее расти и развиваться. Цель этого упражнения — рассказать историю».
Разрушить публичное «притворство», дав «иллюзию», которая считывалась бы как жизнь, живее жизни — задача поистине шекспировская. Внятно рассказать нынешнему зрителю (или читателю) историю от начала до конца, казалось бы, куда проще.Но именно эта наррация труднее всего дается российскому театру и литературе. Склейка разнородных сюжетов, крошащийся цемент «художественных приемов», парочка ходовых «идеек» — и спектакль легко можно вычислить и вообще не смотреть дальше, а книгу не читать: не для вас же рассказывается. Полагаю, что потрясение московского зрителя от спектаклей канадца Робера Лепажа прошлым летом (в особенности «Трилогии Дракона») было вызвано не удачным соединением высокой технологичности представления с обыденностью, мультимедийного с поэзией простых вещей, а просто-напросто тем, что эти истории были рассказаны нам по законам нормального, целостного повествования.
Повествовательный дух истории, которая длится, доставшийся нам от литературы 19 века, — главный стоппардовский «вызов» сегодняшнему.
У спектакля Молодежного театра свой способ рассказывания — о месте, которое было и которого нет. Художественный руководитель театра и постановщик спектакля А. Бородин неслучайно говорит о сходстве неистребимой потребности в романтической утопии у героев пьесы и у людей театра. Однако же… «Чтобы делать в двадцать первом веке репертуарный театр, нужно запастись юмором и самоиронией». Рукописные слова на заднем фоне сцены — не слова, а блики. Бесценные ныне книжки, листки рукописей разбросаны на полу, как после уроков. Дощатые щиты заслоняют какую-то центральную конструкцию: паруса корабля? сваи? крест? Да нет, просто палуба, плещут волны, бьют «склянки». А то вдруг выстрел, завывание ветра и вьюги в дворянском поместье, увиденном из «прекрасного далека»… Почему-то на протяжении всего спектакля все время вносят стулья — уж и такого количества персонажей нет, чтоб сидеть на них рядком, говорить и спорить, уж многие далече…
Время в спектакле постоянно возвращается к каким-то исходным точкам и сюжетам (излюбленный стоппардовский «флэш-бэк»). Для театра такие сюжеты — «чеховский» и «диккенсовский». Ведь здесь, на этой самой сцене, играл и своего Диккенса и своего Чехова МХАТ Второй, закрытый в 1936-м по причинам, не доступным здравому смыслу. Здесь, с 1924-го по 1936-й, исполнялся «Сверчок за печи», пронизанный поэзией простых человеческих чувств, а на деле исповедовавший истину крупную, библейскую. О том, как видеть «лицом к лицу», а не «через пыльное стекло».
Потому и дети, непременные участники спектакля, и его чистый тревожащий звук. Они оттуда, из того контекста, где «детское» могло быть синонимом истинного, а могло приравниваться к «рабскому», легко становясь предметом идеологических манипуляций; былые же ученики разбредались «как овцы, не имеющие пастыря» (Мк 6, 35).
Но вот чудо театральных превращений, которыми так хорошо владеют в Молодежном театре: мы, наученные в школе Огаревым и Герценом с их клятвой на Воробьевых горах, «неистовым Виссарионом», поучавшим аж самих Пушкина с Гоголем, — мы вдруг ощущаем этих могучийх анархистов, социалистов, нигилистов не «отцами», а чуть ли не собственными детьми. Они как будто меньше, слабее нас, и тем нам дороги.
Иллюзия комнаты.Утопия Дома. Возвращение идей бумерангом.
В кои-то веки театр зовет нас не принять слабосильное участие в своем хеппенинге, не ужаснуться перед чужим убожеством — предлагает просто в о й т и, как входят в знакомую дверь, в богатый мир отечественной мысли.
Думаю, что в этом движении входа есть и своя отводящая сила. Не только потому, что не войдешь в одну и ту же реку дважды, не причалишь к берегу единой культуры. И хотя искусство, тем не менее, постоянно живет подобным усилием, создатели спектакля, да и мы, зрители, хорошо знаем, сколько дверей в свободном культурном пространстве было для нас закрыто. Не помнить об этом — создавать иллюзии пустые и опасные, вроде «психоделических» миражей.
Переводчики пьесы Сергей и Аркадий Островские, после некоторых колебаний, вежливо прощаются со стилизованным «под 19-й век» языком документа. Избирается принцип обратного или «культурного перевода» (Ю.Лотман). Политфилософская риторика статей, идеологический запал переписки вводятся в оборот современной культуры, становясь частью живой речи. — «…Герои Стоппарда говорят с определенным акцентом — ведь они так долго отсутствовали в нашей культуре. На протяжении большей части двадцатого века их язык и их мысли извращались и обесценивались. Их имена становились названиями улиц, их лица «бронзовели» на портретах школьных учебников».
Герои спектакля не только говорят, они и действуют с некоторым «акцентом». Театр старается освободить «освободителей человечества» от пошлости временнЫх наслоений. По сцене ходят на «портреты», а живые, милые люди — молодые гистрионы. Многие из них играют не один, а по два-три персонажа. Эскизно сдвоенные, строенные задачи — одна общая художественная цель. Хилиаст Белинский, всю жизнь взыскующий Царство Небесное на земле, в исполнении Евгения Редько органичен на редкость; взвинченная, обреченная пластика и трогающая человеческая глубина. Герцен — Ильи Исаева. Актеру важны в его персонаже не блеск интеллигентности и элегантность ума, но «толстовские» кряжистость и мученичество.Михаил Бакунин — Степан Морозов вдруг примеряет шиллеровскую шляпу Несчастливцева из «Разбойников». Этому исполнителю, быть может, не худо вспомнить о других ипостасях бакунинской натуры: ставрогинское в обличии Рудина, мрачные черты Атиллы — у симпатичного «русского медведя».
Огарев, Станкевич, Тургенев… Порой наши герои что-то чересчур напоминают представителей «Могучей кучки» из советских фильмов 50-х годов, то и дело сталкивающихся на дорогах жизни, чтобы с места в карьер вести умные разговоры «о высоком». Но прием этот в спектакле, кажется, сознателен. Он тянется от литературных анекдотов Хармса (и его подражателей) о Пушкине и других русских классиках. Надо лишь помнить, что «анекдоты» эти придумывались в ощущении не только закрытых дверей, но и полной непроходимости гуманистических идеалов высокой литературы в советскую действительность. Ужас от зияния времени, куда проваливается не столько право гения на творчество, вместе со всеми вместе взятыми «правами человека», сколько сам человек целиком, — веселый ужас надолго поселился в анналах современного российского постмодерна…
Мне отчасти понятна негативная реакция некоторой части нашей критики на всю эту «хармсовщину». Возможно, для кого-то «двери» никогда и не закрывались, никакого зияния не было; каждый делал свое привычное культурное дело. Ну и нечего подсовывать нам очередной центон, переводя героическое в эротическое, христианское — в темное языческое…Только меня-то театр убеждает. «Спотыкания» Белинского о Герцена — наш домашний абсурд, высокое в виде смешного, даже идиотического.Жизнь-«недотепа», по тому же Чехову. Что ж тут поделать! Дмитрий Александрович Пригов, Царство ему Небесное, как-то заметил: персонажи обэриутов живут и «спотыкаются» еще в присутствии Ахматовой. Но ведь и мы должны испытывать (и испытываем) определенную душевную неловкость — в присутствии отечественных риторов, которые все же и жили, и умирали, и приносили свои жертвы отлично от нас. Каждое сказанное слово пропущено этими людьми через собственную, иногда «падающую» плоть. Но может, и нам — в разрыве эпох — скоро придется примерять «юрода колпак» и быть кучкой смешных, нелепых «идиотов»?
Я не берусь отвечать на вопрос, было ли их философическое горение источником будущих революционных катаклизмов, большого террора и рек чужой крови. Скажу лишь, что механизмы искажения и извращения ЛЮБОЙ идеи, через глупое обезьянничество и самоупоенное глумление, нам хорошо известны; они успешно действуют на всех уровнях наших «дискурсов» и дичающих «семантических полей»,
Дурное спонтанно и страшно заразительно, а добро и истина требуют усилий и заботы.
Мы все, скопом и по одиночке, пытаемся миновать абсурд этой действительности, выйти из инфантильного состоянии рабства и обрести взрослое тело, не только биологическое, но и духовное.
Мы все в какой-то мере — глухие. Учимся произносить свое имя по артикуляции чужих губ, как сын Герцена, бедный утонувший мальчик, от которого осталась только перчаточка, которая ныне лежит под стеклом в музее на Сивцевом вражке.
Ритм спектакля от бодрой разнохарактерности сюиты переходит к мерности исторической хроники, высвечивает драматические сломы в жизни отдельной личности и забредает в ее «сны». Объективности ради надо сказать, что подсознательное и метафизическое дается театру хуже, чем «домашнее». Тот «диалектический Рыжий Кот», который неожиданно материализуется в сцене арлекинады, нисколько не загадочен. Вопрос зависает: кто же он, тот Молох, что пожирает своих тружеников? Бездушная природа или история, «не имеющая сценария»? К тому же зритель не обязан знать, что «рыжим котом» в переписке тех лет друзья называли Николая Первого, что любил он ходить по маскарадам... Да и не в царе-батюшке суть. Надо думать, тут скрыт другой, чисто стоппардовский образ, который так и остается котом в мешке.
Стоппард, вслед за Сартром и Беккетом, является создателем языка новой драмы 20 века — языка изматывающих интеллектуальных выкладок, временных пустот и мерцающих в пустоте истин. Это его «Розенкранац и Гильденстерн» были написаны о временах «никаких», когда посредственности становятся героями вместо Гамлета: играют «в орлянку» удачи, просчитывают ходы и исчезают, так и не узнав, «быть или не быть»…
И это именно у Стоппарда почему-то возникает устойчивая тема России и «русского» — кажется, впервые во всей западной литературе, со времен долго живших в России девятнадцатого века братьев де Местров, Жозефа (выходящее из общего ряда философское наставление «Санкт-петербургские вечера, или Беседы о временном правительстве Провидения» не было издано при жизни автора) и Ксавье (написавшего две новеллы на русские сюжеты).
«Десять лет назад имена Александра Герцена, Николая Огарева, Виссариона Белинского у меня ни с чем не ассоциировались, а имя Михаила Бакунина ассоциировалось лишь с ранним периодом анархизма./…/ Я узнал об этих людях из статей Исайи Берлина…» — пишет драматург.
Короткая справка: Исайя Берлин — тот самый, «сэр», Президент Британской Академии наук; ахматовский Гость из будущего в «Поэме без героя», адресат стихотворного цикла «Шиповник цветет» и др. С его приездом в Россию в ноябре 1945 года, с целью планирования послевоенных отношений с Советами, случайного посещения Ахматовой и последовавшего затем долгого ночного разговора и началась, как она глубоко была убеждена, новая эпоха — эпоха «холодной войны».
Факт возвращающейся власти «идей» следует отметить. Преемственность из рук в руки — не только идейную, но и поэтическую — стоит понять.
Берлин и ввел выражение «эффект бумеранга», применительно к способу бытования идей. И Стоппард, в 1975 году написавший абсурдную комедию «Травести» о взаимном передразнивании искусства и политики, с центонами из Джойса, дадаиста Тристана Тцара и В. И. Ленина, в трилогии «Берег утопии» сполна платит по чужим и по собственным счетам. Он подхватывает и переводит всю ироничность нового поколения по отношению к старому, всю свою литературную «центонность» — в единое поле личной писательской ответственности за каждое сказанное человеком слово. Произнесено ли оно ночью в Фонтанном Доме, «в частном письме, публичной речи или дружеской беседе.» (И. Берлин.История свободы. Россия. М., НЛО, 2001, с. 28).
Кроме документального комментария к истории ХХ века, трилогия скреплена еще и авторским взглядом на историческое. В этом взгляде в какой-то мере отражен опыт исследователя, сочетавшего «ясность британского либерализма с антиутопическими уроками русской истории и с обостренной потребностью в принадлежности, свойственной беженцу» (А.Эткинд). Однако берлиновское «негативное» понимание свободы у человека театра обрастает плотной образностью; эффект бумеранга в буквальном смысле слова разворачивает плоть.
Стоппард рассказывает нам не о взыскании идеала и не о судьбах либерализма — о человеке. Понятие страшно размытое и не вполне определенное, даже с биологической точки зрения. В.И. Вернадский, к примеру, смог дать лишь одну дефиницию человека: как нарушителя природного равновесия. В политтехнологиях 80-90-гг. 20-го века он фигурировал как носитель «ролевого сознания». Что же теперь? Не стоит ли вернуться к единственной, пересоздающей роли человека, чьи интеллигибельные усилия и само их присутствие в жизни существенно эту жизнь меняет? (В том и состоял пафос русских мыслителей, от Бакунина до Герцена)… Вот тут-то и появляется стоппардовский Рыжий Кот диалектики. Он, похоже, себе на уме, знает про нас что-то свое… Может быть, про то, что и одного удара колокола достаточно для человеческой жизни? А может, про мягко крадущуюся тишину, безмолвие мысли…
В «Береге Утопии» есть еще один важная тема. Она возникает в результате «перепасовки» текста (в чем автор отчасти сам и признается). Имеется в виду повторяемый на все лады пассаж о том, что «русская литература может заменить Россию». Белинский таких слов никогда не произносил, их в его уста вложил Стоппард. Но и он, в свою очередь, тоже подхватывает чью-то мысль. В обозримое время идею языка как реальности с наибольшей убедительностью отстаивал поэт — Иосиф Бродский.
Бумеранг или рикошет? Зал отзывается смешком, а кое-кто поеживается: как же, однако, не хочется, чтоб у нас вместо России была сплошная литература, да еще в теперешнем ее состоянии!
«Зазеркальный» кэролловский юмор, которым оперирует драматург, не совсем сродни сегодняшнему русскому, либо добродушно улыбчивому, либо скабрезно «опускающему». В этом представлении много игры слов, абсурдно-веселой абракадабры, британского здравомыслия внутри «трансцендентальной», романтической иронии.
Однако все это — и ирония, и абсурд, и искренний интерес к русскому философствованию — лишь затем, чтобы на подмостках театра нам так ясно и внятно было сказано: Россия — не утопия. «История России — это непрерывно развивающееся повествование. И в центре этого повествования находится дух индивидуума, который пытается выразить себя, в то время как над ним нависает устрашающая тень обезличенной власти» (Стоппард).
Вот и получается, что все сказанное не «ниоткуда» — из России и в Россию, с любовью.