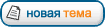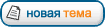http://magazines.russ.ru/znamia/2009/10/ul12-pr.htmlОпубликовано в журнале:
«Знамя» 2009, №10
образ мысли
Людмила Улицкая, Михаил Ходорковский
Диалоги
Об авторах | Людмила Улицкая — писатель, лауреат международных премий, Букеровской премии (2001 г.), премии “Большая книга” (2007 г.). Куратор проекта “Другой, другие, о других” — серии книг для подростков, освещающих актуальные вопросы антропологии и острые социальные проблемы. Создатель фонда “Хорошие книги”, задача которого — снабжение качественной литературой библиотек малых городов, школ, детских домов.
Михаил Ходорковский — гражданин Российской Федерации, бывший руководитель и совладелец крупнейшей в России нефтяной компании “ЮКОС”, основатель Межрегиональной общественной организации “Открытая Россия”, ныне отбывающий восьмилетний срок заключения и находящийся в ожидании приговора по второму уголовному делу; заключенный СИЗО N 99/1 города Москвы.
Людмила Улицкая
Михаил Ходорковский
Диалоги
Когда в нашей стране поменяли президента, западные журналисты вместо прежнего дежурного вопроса “Нравится ли вам Путин?” стали спрашивать “Что собой представляет Медведев?”. Я честно отвечала — не знаю. Впрочем, никто в стране не знал. Человек возник из воздуха. Известно, что юрист.
Скоро узнаем, — отвечала я. — Если Ходорковского отпустят, значит, это самостоятельная политическая фигура. Если нет — лицо фиктивное.
Ходорковского не отпустили. Более того, затеяли еще одно дело, на этот раз уже совершенно высосанное из пальца. А Ходорковский в этих обстоятельствах ведет себя замечательно — с чувством собственного достоинства, бесстрашно и даже, пожалуй, дерзко.
У меня своя личная история: я вообще-то не люблю богатых. У меня обостренное чувство социальной справедливости, мне за богатых бывает стыдно.
Это мой предрассудок, я признаю. У других тоже бывают слабо мотивированные пристрастия: одни не любят евреев, другие таджиков, третьи милиционеров, четвертые — собак породы пит-буль.
Я ни “Юкосом”, ни Ходорковским особенно не интересовалась, пока не обнаружила в разъездах по нашей бескрайней родине, что, куда я ни попадаю, всюду работают программы Ходорковского: в детских домах и колониях, в школах и в университетах. А я, надо сказать, несколько лет тому назад была в Стенфордском университете, придуманном и построенном на деньги одного очень жесткого и даже с подмоченной репутацией капиталиста, мистера Стенфорда. Я эту историю внимательно изучила. Стенфордом восхитилась. И поняла, что нашей стране не хватает таких людей. То есть они — Боткины, Солдатенковы, Щукины, Хлудовы, Третьяковы — были в изобилии в начале ХХ века, но советская власть их истребила. И вот именно когда я обратила внимание на огромный размах социальной благотворительности Михаила Борисовича Ходорковского, я обрадовалась и подумала: наше дело не так безнадежно.
Вскоре как раз Ходорковского скрутили, компанию его забрали и, кажется, развалили, или во всяком случае “распилили”, а от огромной, прекрасно организованной системы благотворительности остался, кажется, один интернат для детей-сирот “Коралово”. Его пока еще не удалось развалить и захватить хорошую под ним землю.
Словом, чем дальше, тем мне больше нравился Ходорковский — вплоть до того, что вступила я с ним в опосредованный (через адвокатов) контакт. Задала кое-какие вопросы. Получила ответы, которые меня в большой степени удовлетворили.
Теперь я знаю об обстоятельствах этого дела гораздо больше, чем год тому назад. Все гораздо хуже, чем может показаться с первого взгляда.
Отбросим безусловные аргументы в пользу сегодняшнего дня: в конце концов не расстреляли в подвале Лубянки на третий день после постановления “тройки”, не отравили радиоактивным плутонием или ядовитой колбасой, а организовали дорогостоящий процесс. Держали в Читинской области, откуда перевезли на процесс в Москву не в теплушке, а на самолете, а керосин нынче дорог. Платят зарплату судье, прокурорам, охранникам, уборщицам, шоферу, который привозит заключенных Ходорковского и Лебедева на процесс четыре раза в неделю на бронированном чудовище большой, огромной даже стоимости.
Мы, налогоплательщики, оплачиваем это долгоиграющее издевательство над здравым смыслом. Мы, граждане, ничего не можем сделать, чтобы прекратить этот фарс. Мы, родители детей, которым жить в этой стране, ничего не можем сделать, чтобы изменить то, что никому не нравится. Это опасно для будущего.
Я — за Ходорковского и Лебедева. Против абсурда и беззакония. Против бездарности и лжи.
Людмила Улицкая
1.
15.10.08
Уважаемый Михаил Борисович!
Возникла возможность с Вами пообщаться, и я этому очень рада. Семейная моя история такова, что мои деды просидели в сумме больше двадцати лет, друзья-шестидесятники тоже внесли свою лепту в этот котел. Да и тема эта для русской литературы очень существенна — настолько, что в прошлом месяце я даже написала предисловие к книге “По тюрьмам” Эдуарда Лимонова, человека очень разнообразного и малоприемлемого. Так случилось, что я даже для детей сейчас курирую книгу “Преступления и наказания”, где опять-таки все про то же — история тюрем, виды наказаний и пр. Потому, если наша встреча действительно состоится — чего бы мне очень хотелось, — то поговорить бы об этом. Вы ведь знаете, что есть две точки зрения: Солженицын считал, что опыт тюрьмы человека закаляет и очень ценен сам по себе, а другой сиделец, менее счастливый, Варлам Шаламов, считал, что опыт тюрьмы в нормальной человеческой жизни непригоден и неприменим вне тюрьмы.
Последние годы жизни Юлия Даниэля мы были дружны, и хотя он не любил говорить об этом времени, но впечатление у меня тогда сложилось, что это очень важное испытание, и для него оно легло не на пустое место, а на его фронтовой опыт. Но, в любом случае, для Вас еще не настало время, когда Вы сможете вспоминать о прошлом, сегодня — это Ваша реальная жизнь. Как Вам удается с ней справляться? Нет ли ощущения дурного сна? Хотелось бы узнать, как изменилась система ценностей: какие вещи, казавшиеся важными на воле, потеряли смысл в лагере? Образуются ли новые внутренние ходы, какой-то неожиданный опыт?
Это мое письмо — простите! — прикидочное: ведь Вы человек, о котором постоянно говорят и помнят, для одних — борец и острый политический деятель, для других — страшилка, но, в любом случае, Ваша ситуация оказалась бесконечно обсуждаемой, а интерес к Вам не иссякает. В свое время Анна Ахматова сказала о Бродском, когда его сослали: “Какую биографию они делают нашему рыжему”. Вам действительно “делают” биографию, и хотелось бы, чтобы об этом можно было говорить в прошлом времени. И это тоже одна из причин, почему бы мне хотелось с Вами встретиться и побеседовать.
С уважением,
Людмила Улицкая
2.
15.10.08
Уважаемая Людмила Евгеньевна!
Большое спасибо за письмо и поддержку. Понял истоки Вашего внимания. Надо отметить, типичные для значительной части нашей интеллигенции. К сожалению, т.к. тюрьма — не самый лучший опыт. В связи с чем мне больше по душе Шаламов, чем Солженицын. Думаю, разница в их позиции связана с тем, что Солженицын считал авторитарный, а значит, тюремный способ управления страной, допустимым. Но, как “гуманист”, полагал необходимым опытом управленца опробование розг на собственной спине. Достойно уважения, но не присоединяюсь.
Тюрьма — место антикультуры, антицивилизации. Здесь добро — зло, ложь — правда. Здесь отребье воспитывает отребье, а приличные люди ощущают себя глубоко несчастными, т.к. ничего не могут сделать внутри этой отвратительной системы.
Нет, это чересчур, конечно, могут и делают, но так жутко смотреть, как каждый день спасаются единицы, а тонут десятки человеческих судеб. И как медленно, оборачиваясь и возвращаясь, движутся перемены.
Мой рецепт выживания — учиться понимать и прощать. Чем лучше, глубже понимаешь, надеваешь чужую шкуру, — тем сложнее осуждать и проще прощать.
В результате иногда происходит чудо: сломанный человек распрямляется и, собственно, становится человеком. Тюремные чиновники этого страшно боятся и совсем не понимают — как? почему? А для меня такие случаи — счастье. Мои адвокаты видели, и не один раз.
Конечно, без уверенности в семье, без их поддержки было бы совсем тяжело. Но в этом и беда, и преимущество попадания в тюрьму в зрелом возрасте: семья, друзья, тыл.
Здесь важнейшее условие — самодисциплина. Либо работаешь над собой, либо деградируешь. Среда пытается засосать, растворить. Конечно, бывает депрессия, но ее можно переламывать.
Вообще, чем жестче внешняя обстановка, тем мне лично лучше. Удобнее всего работать в ШИЗО, где появляется ощущение прямого, непосредственного противостояния враждебной силе. В обычных, по здешним меркам, условиях поддерживать мобилизацию тяжелее.
Извините, пишу, что называется, “заметки на полях”. Не думая. Завтра — очередной суд.
С удовольствием продолжу диалог.
С глубоким уважением,
М.
3.
16.10.08
Дорогой Михаил Борисович!
Спасибо за ответ, написанный накануне суда. Сейчас, в это самое время, идет судебное заседание, и вечером мы узнаем по радио что-нибудь — почти наверняка нерадостное.
Письмо Ваше меня поразило. Отбросило в другую реальность: как будто мы в разных углах мирозданья. Но есть одно существенное и общее — осознанное отношение к личному жизненному пути. Место, где это осознание столь плодотворно происходит, в Вашем случае — тюрьма в квадрате. Как еще можно назвать карцер в местах лишения свободы? Ниже не упасть. Одновременно — неожиданная высота духа несломленного и ума, напряженно работающего. Так сидит в ледяной пустыне тибетский монах, растапливая вокруг себя своей теплой задницей или иным нам неведомым способом полянку, на которой начинают расти травы и цветочки. И вырастают на этой поляне редкие плоды осознания себя и окружающего мира, сострадания, терпения. Вот уж поистине, те ребята наверху (в обоих смыслах!) Вам делают не только известность, разного рода славу — хорошую или дурную, в этой системе координат не имеет значения, — но с Вами происходит процесс, которым мог бы руководить мудрый гуру, духовный учитель, старец какой-нибудь или кто там на это место назначен.
Меня всегда очень увлекал тот поток, в котором находится человек от рождения до смерти. Поток тебя несет, а ты плывешь по течению, предугадывая его повороты, то попадая в середину течения, то делая самостоятельное движение, чтобы несколько изменить направление. И здесь всегда есть начальная точка, когда ты осознаешь свою жизнь вписанной в общий поток и все последующие моменты “переориентировки”. Это очень увлекательная история — каждая человеческая судьба. Думаю, что Вы можете сказать больше, чем многие люди, которым жизнь не давала такого экстремального и разнообразного опыта. Вам дали время подумать. Насильственно. Но Вы оказались хорошим учеником. Вот об этом я и хочу поговорить.
Возьмем исходную точку: детство, семья, установки и намерения. Как Вы планировали свою жизнь в то время, когда вообще эта идея возникает?
У меня это произошло очень рано: родители были более или менее ученые. Традиционные “менеэсы”, хотя и со степенями. Я и была нацелена на науку — это была биология, и в моем сознании очень удачно уживались идеи “служения человечеству”, удовлетворение тщеславия и ошибочное представление о том, что наука — наиболее свободная область. Естественно, все иллюзии со временем рассыпались. Расскажите, а как Вы мальчиком видели свое будущее? Что было Вашей жизненной программой в юности? Я знаю, конечно, что Вы были в комсомоле, и даже функционировали в том пространстве, которое для меня (я Вас старше на 15 лет) было совершенно неприемлемым. Вероятно, Вы чувствовали себя своим или по крайней мере мимикрировали под “комсомольских деятелей”, потом оказались “своим” в среде “олигархов”, где тоже своя занятная и привлекательная для народных масс жизнь. Вы явно превысили пределы дозволенного, нарушили некий неписаный закон (сознательно или неосознанно), то есть перешли границу “дозволенного” в том высшем кругу, куда мой глаз не проникает и, честно говоря, никогда и не стремился проникнуть. Вот я как раз и хочу поговорить об этом.
Каждый из нас выбирает для себя свою собственную границу, которую он не переступает. Для примера: моя подруга Наташа Горбаневская вышла на площадь в 1968 году с трехмесячным ребенком и потом получила “психушку”. У нее инстинкт самосохранения если не отсутствовал, то явно был ослаблен. Я бы не вышла и без ребенка. Просто от животного страха. Но я не могла проголосовать на собрании в Институте общей генетики, где работала тогда, “за осуждение” и протопала вон из зала под изумленные взгляды сослуживцев в тот момент, когда надо было поднять руку. Это была моя граница. Очень скромная. Заплатила недорого — при первой возможности уволили. Стала в конце концов книжки писать. Где пролегали Ваши этические границы в юности? Как они менялись со временем?
Я совершенно уверена, что Вы об этом думали, и даже читала некоторые Ваши высказывания на этот счет. Но нам, чтобы разговор наш был плодотворным, надо пройти шаг за шагом к сегодняшнему дню. Кстати, не могу Вам не сказать, что по радио нам сегодня сообщили, что условно-досрочное освобождение Вам не дали.
Суд свое дело знает. Ничего другого и не ожидали. Таким образом, у нас есть некое неопределенное время для разговора на эту отвлеченную, но интересную тему, и мы сможем продолжить наше общение.
С уважением,
Людмила Улицкая
4.
10.11.08.
Уважаемая Людмила Евгеньевна!
Спасибо за письмо и за проявленный интерес.
Мои воспоминания носят совершенно отрывочный (эмоциональный) характер, т.е. то, что эмоционально окрашено, — помню, остальное — почти нет.
Иногда происходит замещение памяти, то есть помню то, что на самом деле рассказывали родители. Тем не менее “отчетливо”, с детства хотел стать директором завода. В общем это неудивительно: родители всю жизнь работали на заводе, детский сад — заводской, пионерлагерь — заводской, директор завода — везде главный человек.
Мои мама и папа, как я теперь понимаю, весьма не любили советскую власть, но всячески ограждали меня от своего влияния в этом вопросе, считая, что иначе испортят мне жизнь. И я вырос “правоверным” комсомольцем безо всяких сомнений в том, кто друзья и кто — враги.
Выбирая свой путь в жизни, ориентировался не просто на химическое производство, а на оборонное направление, т.к. считал, что самое главное — защита от “внешних врагов”.
Комсомольская работа в институте была, конечно, не проявлением политического призвания, а стремлением к лидерству. Собственно, я никогда идеологией не занимался, моя стезя — оргработа.
Стройотряды, заводская рабочая практика — все это очень нравилось именно как возможность самореализации производственника, менеджера.
Когда после института меня распределили в министерство — Госгортехнадзор, — был крайне огорчен, т.к. хотел на завод, и поэтому отпросился в райком комсомола, чтобы не идти на три года в министерство.
Дальше — центры НТТМ, бизнес, защита Белого дома…
Интересно, что секретарь парткома института предлагал мне в 1987 году продолжить “комсомольскую” карьеру и был поражен, когда я выбрал “хозрасчетные штучки”.
Что же касается “барьеров”, то они для меня заключались в одном: никогда не изменять своей позиции под давлением силы, а не аргументов. У нас был прекрасный ректор Г.А.Ягодин. Он называл меня “мой самый непокорный секретарь” (имелось в виду секретарь факультетского комитета комсомола). Понятно, что он мог легко меня сломать, но не делал этого, позволяя закалиться характеру. К сожалению, в 1985 году он ушел из института на повышение.
Мне повезло и второй раз. Секретарем нашего свердловского райкома партии была Кислова, а членом бюро — министр промышленности стройматериалов Ельцин Б.Н. Я получил от них настоящий урок мужества, когда их “гнобили”, а они не сдавались. Причем, Кислова не сдала Ельцина. Чего ей это стоило — могу себе представить.
К слову, в 1999 году депутатом от Томской области, где я работал, был Лигачев Е.К., который всячески пытался “гнобить” уже меня. Я запретил нашим атаковать его в ответ, т.к. он был уже очень пожилым человеком, хотя сказать было чего “с избытком”.
Я считал себя членом команды Ельцина. Одним из очень многих. Именно поэтому пошел защищать Белый дом в 1991 году и мэрию в 1993-м, именно поэтому вошел в неформальный предвыборный штаб в 1995—1996 годах. Это, пожалуй, стало самым опасным мероприятием в моей жизни (почти). Именно из-за Бориса Николаевича я не выступал против Путина, хотя и имел про него свое мнение.
Что же касается “олигархической” тусовки, то я всегда выступал против такого обобщающего понятия. Мы были совершенно разными людьми. Гусинский и Березовский, Бендукидзе и Потанин, я и Прохоров. У нас совершенно разные цели в жизни, восприятие жизни. Скорее, были нефтяники и металлурги, массмедийщики и банкиры. И то, наверное, будет не очень точно.
Думаю, могу определить себя как вольтерьянца, т.е. сторонника свободомыслия, свободы слова. Б.Н. Ельцин в этом плане был моим идеалом, как до него и Г.А. Ягодин. Работа с ними не вызывала у меня внутреннего протеста.
Разгром НТВ (я пытался им помочь деньгами, что мне вменили в первом процессе) стал моим “Рубиконом”. Именно разгром команды, а не переход собственности, поймите правильно.
Пока прервусь. Благодарю Вас за письмо. Надеюсь на продолжение общения.
С уважением,
М.
5.
18.11.08
Уважаемый Михаил Борисович!
Письмо Ваше на этот раз меня удивило своей неожиданностью: полжизни мы выстраиваем стереотипы, разного рода штампы и клише, потом начинаем в них задыхаться, а годы спустя, когда наработанные стереотипы начинают рушиться, очень радуемся освобождению. Пока что я говорю о своих представлениях. Постепенно, надеюсь, и до Ваших доберемся.
Итак. Ваши родители — добротные шестидесятники хороших кровей — инженеры, производственники, честные, порядочные — ваш папа с гитарой в одной руке и с рюмкой в другой, веселый и живой, мама, готовая всегда и гостей принять, и помочь подруге в трудных обстоятельствах. И их отношения с советской властью понятны: а пошла она… Дети шестидесятников, прочитавшие в девятом классе перепечатанные на машинке “Архипелаг ГУЛАГ” Солженицына и “1984” Оруэлла, брезгливо от власти отшатывались и в лучшем случае писали диссертации, работали врачами или лифтерами либо участвовали в социальном движении, которое впоследствии называлось “диссидентским”. Часть этих подросших детей прошла опыт тюрьмы и лагерей в 70—80 годах, часть эмигрировала на Запад. А Вы как-то убереглись от этого и удачно встроились в тогдашнюю машину, нашли в ней свое место и эффективно работали. Особенно трогает невинность, с которой молодой человек готов пойти хоть в “оборонку”, потому что родину надо защищать.
Два десятка лет разницы в возрасте исключают ситуацию, которую легко вообразить, будь мы ровесниками. Когда я с тошнотой отвращения и с туристической путевкой в кармане приходила в комитет комсомола факультета для получения характеристики, то сидели там либо прожженные карьеристы, либо идиоты — и я отвечала на вопрос, кто там у них в Болгарии секретарь ЦК партии. Я туда пошла в 60-е, а Вы там сидели, или в соседнем кабинете, в начале восьмидесятых. Несомненно, Вы принадлежали к кругу людей, с которыми я, мягко говоря, не дружила.
Оказывается — что меня и удивило в Вашем письме, — у кого-то из этих людей в 80-е годы могла быть “позитивная” мотивация. Вы там присутствовали — молодой, талантливый человек, мечтающий стать “директором завода”, осмысленно и правильно что-то производить, может, даже оружие для защиты родины. И там, в этом окружении, Вы видели “прогрессистов”, как Ельцин, и ретроградов, как Лигачев. Вы находились внутри системы, и нашли там свое место, и создали команду. Вы пишете, что идеология Вас не интересовала, а имело значение “стремление к лидерству”. Но это стремление — приличное определение понятия “карьеризм”. Это не ругательство, а определение. Карьера, дело — важнейшая часть жизни нормального мужчины. Сегодня — и женщины тоже. Но, как мне казалось, предлагаемые там, внутри системы, правила игры были таковы, что порядочному человеку их принять было невозможно. А Вы-то были мальчиком из приличной семьи. Как можно было ухитриться вырасти “правоверным” комсомольцем безо всяких сомнений в том, кто друзья и кто — враги? Значит, это было возможно. У меня нет оснований не доверять Вашему анализу. Значит, я была пристрастна в своем полном неприятии всех партийных и полупартийных людей.
В восьмидесятые годы в руководстве страны (да и на всех уровнях, вплоть до бани и детского сада) была уже полностью изжита любая общественная идеология, и оставался только пустой каркас.
Теперь вижу, что я неполно представляла себе картину. Может, и вовсе неверно. Отвращение к советскому строю было во мне столь велико, что я не допускала, что в этой позднекоммунистической среде можно на кого-то ориентироваться, кому-то доверять. Даже кумира найти. Ельцин был для меня одним из партработников, и я страшно заволновалась, когда все мои друзья побежали к Белому Дому, а я сидела у себя дома и горевала: почему мне не хочется бежать на эту демонстрацию вместе со всеми?
Через несколько дней сказала: если будет люстрация, как в Германии после поражения нацистского режима, тогда поверю. Был большой энтузиазм, а я не могла его разделить. Люстрации не было: почти все начальники остались прежними, поменявшись креслами, лишь кое-кого изгнав.
Я понимаю, что в Ельцине было обаяние, и размах, и хорошие намерения. Только кончилось плохо — сдал всю страну в руки КГБ. Нашел “чистые руки”. И Вы это, какими-то иными словами выразив, тоже, как мне показалось, признаете.
Как Вы сегодня, спустя десятилетие, оцениваете фигуру Ельцина? Если эта переоценка произошла, то когда?
Был момент, когда мне казалось, что реформы Гайдара могут создать эффективную экономику, но он не вытянул. Книга его о падении империи очень интересна, многое объясняет, но задним числом.
Была ли у Вас в то время какая-то концепция переустройства или Вы были вполне удовлетворены теми большими возможностями, которые тогда открылись перед предпринимателями? Нет сомнений в том, что Вы оказались очень хорошим директором очень большого, на полстраны, завода.
Наконец самый болезненный из всех возможных вопросов. Настолько болезненный, что я готова не получить на него ответа. Вообще снять вопрос. Был момент, когда близкие к Ельцину люди получали в управление или во владение, или в собственность огромные куски в виде “фабрик, заводов, газет, пароходов”. Было одно распределение, потом ряд последующих “перераспределений”. Часто очень жестких. К этому времени Вы уже стали “директором завода”. Где в тот период проходили границы дозволенного для Вас?
Да, относительно вольтерьянства. Старец весь мир взбаламутил своими идеями. А прижитых от прислуги детей велел сдавать в приют. Или это Руссо? Это просто какой-то капитальный закон природы: чем возвышеннее идеи, тем гнусней практика жизни…
Вот. Вношу поправку в вопрос: что из идей Вашей молодости, когда Вы мечтали быть “директором завода”, вы сохранили? Что утратили? Я, конечно, о системе ценностей речь веду.
Я Ваше имя выделила из ряда олигархов, когда в одной детской колонии, куда меня занесло вместе с подругами-психологами, обнаружила компьютерный класс, на Ваши деньги организованный, а потом еще в разных сферах натыкалась на следы “Открытой России”, Вашего детища. Несколько лет спустя, когда Вы уже были арестованы, я попала в лицей “Коралово”, познакомилась с Вашими родителями и увидела там невообразимо прекрасно устроенный остров для детей-сирот и полусирот. Ничего похожего я не видела нигде в Европе. Тоже Вашими усилиями построенное дело.
Вы пишете, что для Вас поворотным пунктом в отношениях с властью был разгром НТВ. У каждого человека действительно “свой Рубикон”. Но до этого времени Вы как-то выстраивали отношения с властью, все более теряющей чувство приличия. Еще один жесткий вопрос: у Вас было ощущение, что этот процесс можно изменить? Если бы НТВ сохранилось, вы смогли бы наладить подпорченные отношения с Кремлем?
Пресса продажна и послушна властям во всем мире. Вопрос в том, что в разных странах разного размера труба для выхлопа отрицательных эмоций. Неужели Ваш конфликт произошел из-за диаметра не нефтяной, а информационной трубы? Для меня это значило бы, что Вы, будучи прагматиком и практиком, не растратили романтических иллюзий.
Вы простите меня, может, что-то получилось жестко в этом письме. Но “золотой век” кончился. Иллюзии развеялись. Мало времени на размышления. У меня к тому же острейшее чувство катастрофически “сжимающегося” времени. Хочется напоследок “дойти до самой сути”. Впрочем, никому не удавалось. Ну, хоть приблизиться сколько возможно.
И еще есть одна проблема, которую хотелось бы обсудить: человек — его частная жизнь и давление общества. Как сохранять свое достоинство, свои ценности… Как эти ценности меняются? И меняются ли? Когда человек находится в лагере, возникает уникальный опыт, отличный от здешнего. Это я заранее Вас предупреждаю, о чем еще мне хотелось бы с Вами поговорить, если будет такая возможность.
Желаю Вам здоровья, твердости и спокойствия.
С уважением,
Людмила
6.
05.06.09.
Уважаемая Людмила Евгеньевна,
был очень рад получить Ваше письмо, воспринимаемое мной как справедливый “подзатыльник”.
Мои родители специально сделали так, чтобы я не стал “белой вороной” в том обществе. Сейчас я это понимаю, тогда — нет. Более того — и в школе, и в институте я не видел “белых ворон”. Школа была на пролетарской окраине, институт — тоже сугубо “пролетарский” — 70% по путевкам с заводов. Не было у нас диссидентов вообще. В институте особенно — факультет оборонный, и если исключали из комсомола, то автоматически отчисляли. Причем мы считали это справедливым.
Я как секретарь факультетского комитета отказывался исключать из комсомола отчисляемых из института, т.к. был убежден: не всякий комсомолец может быть способен к учебе. А вот обратное на оборонном факультете казалось мне абсолютно справедливым. Ведь мы должны при необходимости отдать жизнь за Родину даже в мирное время, а как это можно потребовать с некомсомольца или некоммуниста? Не шучу, не утрирую. Ровно так и думал.
“Один день Ивана Денисовича” читал, был потрясен, Сталина ненавидел как опорочившего дело Партии в интересах культа собственной личности. К Брежневу, Черненко относился с юмором и пренебрежением — геронтократы, вредят Партии. Андропова уважал, несмотря на “перегибы на местах”. Вам смешно? Хотел бы посмеяться. Не выходит.
Я, когда был на практике, не в заводской библиотеке сидел, а гексоген (взрывчатку) лопатой кидал, на пресс-автомате работал (чуть вместе с приятелем на тот свет не отправился по собственной ошибке). На сборах были, мне звание сержанта присвоили и назначили замполитом, а я опять попросился на завод — снаряды старые разбирать. Мы ведь комсомольцы, нам положено идти на самые опасные участки. И разбирал под недоуменными взглядами командовавших офицеров с нашей военной кафедры.
Опять рассмешу: их недоумение не понял, а они ничего не сказали.
К слову, смело ругался с секретарем партбюро. Даже никаких опасений не ощущал. Он сам приходил на комитет комсомола, где было 20 женщин с заводов и двое-трое парней — мы с ним спорили, и комитет голосовал за меня, практически 100%. Парторг жаловался ректору — Ягодину. Девчонки, к слову, мне до сих пор пишут. Одна из них — моя первая жена, другая уже 20 лет — нынешняя. Пишут, правда, не только они, но и другие, писала даже парторг (это начальник секретаря партбюро) Люба Стрельникова.
Не подумайте ничего плохого. Я был в этом плане очень приличным молодым человеком. Шучу.
Что же касается ощущения внешнего врага, то оно было крайне острым, как и ощущение причастности к “девятке” — группе оборонных отраслей.
Я, к слову, уже как советник Силаева принимал участие в последнем заседании ВПК (военно-промышленной комиссии) — “девятка” плюс министерство обороны. Ну, это отдельная тема.
Я никогда не знал секретаря ЦК по обороне — Бакланова, но потом, после 1991 года, взял его к себе из корпоративной солидарности. Ельцин это знал, но ничего мне не сказал.
А в 1996 году оборонщики напрямую Ельцину деньги дать отказались (в кредит Правительству, тогда было такое возможно!), а я попросил — дали под честное слово. Хотя рисковали головой. Частично на их деньги я и купил ЮКОС, потом деньги отдал. Они знали, на что я беру. Некоторые из моих знакомых, которых я считаю хорошими людьми, входили в ЦК КПРФ, некоторые поддерживали ГКЧП (как, к слову, и Бакланов, и Лукьянов, чья дочь сейчас — мой адвокат).
Это я к тому, Людмила Евгеньевна, что с той стороны баррикады люди были совсем не “плоские”. “Упертые” в одном и абсолютно порядочные — в другом.
Я, как и они, был солдатом не своей, виртуальной войны. Но мы были честными солдатами. Защищали то, что считали правдой.
Я Вам еще более рискованную вещь скажу. Мы очень серьезно подходили к сотрудничеству с КГБ. Мы — это оборонщики. Они работали на нас и одновременно контролировали нас, но совсем не с точки зрения “политической грамотности”, а с точки зрения физической охраны, контршпионажа и т.п. Это были очень серьезные, очень квалифицированные специалисты. Некоторые из них прошли Отечественную войну на нелегальной работе. Их уроки мне очень пригодились в тюрьме, т.к. у них за плечами были и тюрьмы, и концлагеря, и зинданы. Они были очень рады, что их опыт кому-то нужен. Оказалось — еще как нужен!
Были и другие — “НКВДшники”. Их не уважали, сторонились и мы, и те специалисты, о которых я говорил.
К слову, никто из них (из специалистов) никогда не попросил у меня денег. Хотя некоторым я помог найти работу после 1991 года. А их коллеги спасли нам жизнь, отказавшись штурмовать Белый Дом. Некоторых я знал лично, других — опосредованно.
Вот она — судьба. Вот она — гражданская война. А как потом все “запереплеталось”…
Теперь о лидерстве и карьеризме. Не соглашусь — вещи разные. Карьера, в плохом смысле, — это вверх по ступенькам бюрократической лестницы, подхалимничая и пресмыкаясь. Да, таков путь большинства “успешных людей”. Так можно было стать вторым секретарем, заместителем директора завода, начальником управления и даже заместителем министра. Но не “линейным руководителем” — начальником цеха, директором завода. Туда ставили других. Лидеров. И терпели их, т.к. карьеристы на линейных постах “валили” дело. А за дело был спрос.
И Ягодин, и Ельцин терпели меня как “линейного руководителя” абсолютно “в духе партийных традиций”.
Это было такое же место для “иных”, как наука. Только “иных” в другом смысле: политически правоверных, но “плохо гнущихся”.
Если говорить о Борисе Николаевиче, то я не могу быть беспристрастным. Понимаю все его недостатки. Более того, считал в 1999 году, что ему надо уйти. Хотя кандидатуру Путина я не приветствовал, и Путин это знает.
Но Борис Николаевич был фигурой. Глыбой. Настоящий русский царь со всеми плюсами и минусами данной ипостаси. Он сделал много хорошего и много плохого. Чего больше — не мне судить.
Можно ли было Россию глобально изменить сильнее или лучше, чем он? Можно ли было обойтись без “термидора” и нового застоя, без возвращения “товарищей из органов”? Без чеченской войны, без штурма Белого Дома? Наверняка можно. Мы не сумели. Не он — все мы. И какое у меня право судить?
Когда мы познакомились, мне было 23. И я хочу сохранить те свои воспоминания. Он уже умер, и это никому не мешает.
В гайдаровские времена идей переустройства страны в целом, как исторического здания, у меня не было, но было видение “переустройства” экономики. Я был сторонником создания и последующей приватизации не отдельных предприятий, а крупных научно-промышленных комплексов по типу “Газпрома” (не всегда таких масштабных, но аналогичных по структуре). Мы в Правительстве называли это активной промышленной политикой (не только создание, но и некое целеполагание, определение задач и приоритетов).
Когда мои идеи пришлись “не ко двору”, я ушел, предупредив, что воспользуюсь той дурью, которую они понапишут. В том числе и свободно обращаемыми ваучерами. Надо сказать, я сразу говорил, что это плохо кончится, что чешский пример лучше (там “закрытые фонды”), но мне заявили — как всегда — о моем явно корыстном интересе. Правда, не совсем понятно — каком. И я не стал спорить. Не хотите — не надо.
Зато потом — и вот здесь мы можем поговорить о границах дозволенного — я пользовался любой дыркой в законодательстве и всегда лично рассказывал членам Правительства, какой дыркой в их законах и как я буду пользоваться или уже пользуюсь.
Да, это была маленькая месть, возможно — грех тщеславия. Но, надо отметить, они вели себя прилично: судились, перекрывали дырки новыми законами и инструкциями, злились, однако никогда не обвиняли меня в нечестной игре. Это был наш постоянный турнир.
Прав ли я был по большому счету? Не убежден. С одной стороны — объективно поднимал промышленность, с другой — подставлял далеко не самое плохое правительство. С одной стороны — конечно, вкладывал все доступные мне средства в индустрию. Эффективно вкладывал. Сам не шиковал и не давал шиковать другим. Но в то же время не очень думал о людях, о социальной ответственности за пределами моего, пусть очень большого, коллектива.
Что же касается “жесткости” при захвате и перераспределении, то вопрос имеет смешной, неправдоподобный ответ.
В “высшей лиге” играло от силы два десятка игроков. Больше просто не было. А список предприятий, например, для “залоговых аукционов” был 800 позиций. У нас всех вместе сил хватило, по-моему, на 70.
Я сам был вынужден бросить все остальное, чтобы справиться с ЮКОСом. Сидеть в командировках безвылазно, бросить банк, распродать и раздать почти все ранее купленные предприятия. Например, мне до этого принадлежала вся отрасль производства стройматериалов Москвы, ряд металлургических заводов, тот же пресловутый “Апатит”.
Это не шутка, это — настоящая работа. И никакие чужие дела меня абсолютно не интересовали. Мы все очень редко реально конкурировали между собой, мы боролись с общим бардаком и разрухой. Бандиты нас тоже практически не атаковали, т.к. им было абсолютно непонятно, что и как можно ухватить в такой гигантской машине. Конечно, бывали “отморозки”, бывали риски, но вообще времена в “высшей лиге” были “вегетарианские” по сравнению с нынешним “днем рейдера”.
Когда, например, Володя Виноградов (“Инкомбанк”), ныне покойный, мешал мне в борьбе за ВНК, я ему предложил отступные, а когда он отказался — задавил суммой залога на аукционе. Что, конечно, обошлось мне недешево.
И это была обычная практика: PR-кампания, лоббирование, деньги. Но не милиция и не криминал. Если бы кто-то был замечен в таком, с ним бы просто перестали иметь дело из соображений безопасности. И быстро бы подставили.
Именно поэтому все поиски Генеральной прокуратуры в последние годы привели к столь неубедительным результатам.
В “высшей лиге”, во всяком случае, до прихода туда граждан с “правоохранительным прошлым”, барьер стоял там, где его можно было защитить в арбитражном суде (пусть не полностью независимом, но и не контролируемом, как сегодня Басманный). Барьер стоял и на уровне допустимой поддержки со стороны чиновников, которые могли встать на твою сторону из собственных соображений, но понимая, что им свою позицию придется всерьез защищать у Премьера и Президента, но не только, а еще и — страшное дело — в СМИ!
То есть сегодняшний уровень “отморозки”, когда люди ощущают полную безответственность при правильности “политической позиции”, — нет, такой уровень было трудно себе представить.
У меня был уволенный начальник НГДУ, Фазлутдинов, который, отстаивая незаконность увольнения, дошел до ВС РФ и победил, получив от меня в качестве компенсации более 40 тысяч долларов (тогда — очень большие деньги). И мое Правовое управление, зная, как оно “попадет” за проигрыш, ничего не смогло сделать.
Пришедшая нам на смену “Роснефть” попросту выкинула его из суда “в шею”. Он приходил плакаться к моему адвокату, который вел его дело в компании.
Нет. Искать дырки в законах и пользоваться ими в полной мере или ограниченно — вот где проходил наш барьер. А демонстрация Правительству его ошибок в законодательстве — главное интеллектуальное удовольствие в этой сфере.
Не могу не отметить, что главной причиной смены моих личных жизненных установок в социально-предпринимательской сфере стал кризис 1998 года. До этого момента я рассматривал бизнес как игру. Только игру. Где надо (хочется) победить, но и проигрыш — не проблема. Игру, где сотни тысяч людей приходили утром на работу, чтобы поиграть вместе со мной. А вечером уходили к своим делам и заботам, со мной не связанным.
Это, конечно, очень схематично. Я сталкивался с проблемами и до 1998 года, но это были проблемы, за которые я лично ответственности не нес: я пришел, а так “уже было”.
И вот 1998 год. Сначала весело — переживем! А потом — август. Катастрофа. Цена на нефть 8 долларов за баррель, себестоимость — 12 долларов за баррель. И нет денег, чтобы отдать долги, и нет денег на зарплату. А людям реально нечего жрать, и это — моя личная ответственность. А нефть внутри страны никто не покупает, на экспорт труба забита. Никто не платит. Банки-кредиторы грозят заблокировать счета за рубежом. В России банки просто не проводят платежи. Березовский дал мне кредит под 80% годовых в валюте!
Приезжаешь на “вахту” — люди не орут, не бастуют — понимают. Просто в обморок падают от голода. Особенно молодежь, у кого своего хозяйства нет или дети маленькие. А больницы… Мы ведь и лекарства покупали, и на лечение отправляли, а здесь — денег нет. И, главное, — эти понимающие лица. Люди, которые просто говорят: “А мы, мол, ничего хорошего и не ждали. Благодарны уже за то, что приехали, разговариваете. Мы потерпим…”. Забастовок с августа 1998 года не было вообще.
В результате после преодоления кризиса мои жизненные установки начали меняться. Я не мог больше быть просто “директором”. В 2000 году мы создали “Открытую Россию”.
Еще раз о взаимоотношениях с Законом. Никогда не считал и не считаю оправданной позицию — “все нарушали”. Если нарушал ты — отвечай. Моя позиция совершенно в другом: наше законодательство (как, впрочем, и законодательство любой другой страны) оставляет множество “белых пятен”, простора для толкований, которые, собственно, и являются предметом деятельности суда (в основном Верховного). Беспредел или, вежливо говоря, “избирательное применение закона”, в деле “ЮКОСа”, заключается в том, что для “ЮКОСа” применяется отдельное, специальное толкование закона. Такое, которое не применяется (и не может быть применено) к другим субъектам аналогичных правоотношений.
Я считаю, что в целом законы у нас нормальные, не хуже и не лучше, чем в остальных странах, а вот с правоприменением, с судами — катастрофа.
Теперь об идеях и ценностях молодости.
— “Страна — осажденная крепость, поэтому все — для укрепления обороноспособности, кругом враги” — это, конечно, ушло, заместившись пониманием интересов стран и народов, которые не всегда (мягко скажем) совпадают с интересами государств и элит. При этом патриотизм — будете смеяться — по отношению к России остался. Он внутри и, например, мешает говорить о стране гадости, даже когда очень хочется.
— Идея коммунизма, как всеобщего “светлого завтра” ушла, оставив в душе горечь от раскрывшегося обмана. Ведь под красивой мечтой скрывался наглый бюрократический тоталитаризм. Причем сама идея социального государства, обеспечивающего систему заботы общества о своих аутсайдерах (вольных или невольных), о равном шансе для каждого из детей — эта идея живет. Но она стала внутренним дополнительным стержнем только после кризиса 1998 года. До этого — обида и желание доказать, что “могу”…
— А вот общечеловеческие ценности пробивались ко мне долго. Думаю, именно тогда, когда они “пробились”, я и восстал. Было это в 2001 году — НТВ, — и восстание было “на коленях”. Но именно тогда на РСПП встал вопрос: что “во-первых” — собственность или свобода слова? Ведь долги НТВ “Газпрому” были реальными. И тогда я для себя пришел к выводу: одного без другого не бывает, и дал НТВ 200 миллионов долларов. Что мне потом записали в обвинение.
Я не революционер. И если бы НТВ сохранили, то я, возможно, и к остальным событиям относился бы менее внимательно. В общем, не спешил бы “выделяться”, оставляя “политику” более активным “товарищам”. Как, впрочем, всегда и поступал. Здесь — не смог. Возникло ощущение удавки на шее.
С этой точки зрения тюрьма — вещь более определенная, менее гнетущая. Хотя, конечно, во всем остальном — сильно не сахар.
И, конечно, такая развязка не была моей целью. Но меня загнали в угол, из которого другого достойного выхода не было. Мудрый человек, вероятно, избежал бы такой альтернативы.
Что касается проекта “культурной антропологии”, то не уверен, что в области денег я лучший специалист. Подумаю. Пока, если можно, дайте моим адвокатам ссылки, что посмотреть.
Еще раз спасибо за письмо.
М.
7.
24.06.09
Дорогой Михаил Борисович! Более полугода тому я отправила Вам письмо, которое, как сейчас выяснилось, до Вас не дошло. Надеюсь, что это дойдет.
Происходящий процесс — абсолютно кафкианский — несколько затянулся. Я даже призадумалась: эта бездарность — естественная, “как всегда”, или какой-то сатанинский замысел, в котором учитывается психологическая усталость общества, которое устает реагировать на события, развивающиеся медленно и слабо, как в плохом театре. Хорошо, что есть два участника, Вы и Платон Лебедев, которые время от времени разрывают этот дурной сон.
При этом постоянное ощущение, что разыгрывается игра живых людей не то с тенями, не то с призраками. Может, куклы? Не люди, а какие-то мыльные пузыри, можно было бы сказать — гоголевские персонажи, если бы не так мучительно бездарно все это было поставлено. Нет, нет, конечно, ясно, что есть намерение затянуть процесс, хотя бы для того, чтобы не выпустить Вас на свободу.
А что Вы, Михаил Борисович, на это скажете: это плохая работа постановщиков спектакля или хитроумный ход, рассчитанный на неизбежную усталость общественного мнения? Надежда, что весь мир забудет об этом процессе? Но — не забудет. Будет фигурировать в учебниках истории страны, как процесс Синявского и Даниэля.
Буквально на днях я была на приеме у генерала Калинина по поводу книг для детских колоний, мы собрали 62 посылки. Первый раз в жизни видела живого генерала этого ведомства. Генерал произвел впечатление живого, образованного и профессионального человека. Просто вполне хорошее впечатление. Я понимаю, что управление федеральной системы наказаний — не дамская благотворительная организация помощи бездомным кошечкам, но все-таки…
А как Вы думаете, Михаил Борисович, этот шквал наказаний, который на Вас обрушивается, жизненно опасных и смехотворных “наездов”, которые происходят, — на каком уровне организуется: местного тюремного руководства или самого высшего уровня? Или вообще спускается из другой епархии? Имею в виду Кремль, конечно.
Никак не хотелось бы поставить Вас в более тяжелое положение, чем то, в котором Вы уже находитесь. Поэтому можете не отвечать на этот вопрос.
Когда Дмитрий Медведев стал президентом, за границей все журналисты задавали этот волнующий их вопрос: что я думаю о новом президенте? Что тут отвечать человеку, который имеет роскошь вообще о них не думать — ни о старом, ни о новом? Есть в жизни много вещей поинтереснее. Но отвечала всегда одно и то же: скоро узнаем про нового президента: если Ходорковского отпустят — значит, это другой президент, а если нет, значит — никакого нового президента нет. Вот такая загадка Сфинкса!
А Вы, Михаил Борисович, на своей шкуре, простите, почувствовали, что власть поменялась, или — нисколько она не поменялась?
У Вас удивительная судьба, Михаил Борисович: Вы уже прожили несколько разных жизней, и, надеюсь, впереди Вас ждет еще прекрасный кусок жизни — деловой и общественной или частной и закрытой, но в любом случае это будет жизнь осмысленная, творческая. Не могу себе представить Вас на пенсии. Как Вы мыслите свою жизнь после освобождения? Сейчас Вы защищаетесь и делаете это великолепно. Что вы будете делать, когда вернетесь домой?
С месяц тому назад я была в “Коралово”, в лицее для сирот, который Вы в свое время организовали. Там новый директор, очень хороший и умный человек, Марина Филипповна и Борис Моисеевич окружены ребятами, и видно, какие у них прекрасные отношения. Отстояли от идиотского налога оставшихся родителей воспитанников, и весь лицей в целом — какая-то воплотившаяся социальная утопия. Следы Вашей благотворительности встречаю часто — именно следы. Разрушено замечательное дело. Я уже не говорю о Вашей компании. Но в данном случае меня интересуете Вы, а не отнятые у Вас деньги.
Что Вы будете делать после освобождения? Не могу себе представить, чтобы Вы не строили планов относительно будущего.
Желаю Вам крепкого здоровья и терпения. Мужества и силы Вам не занимать. Ждем Вас на свободе.
Людмила Улицкая