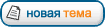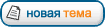|
Как мы живем…
Сэр Том Стоппард написал свою «русскую» трилогию «Берег утопии» в 2002 году. С тех пор трилогия была поставлена в Королевском национальном театре Лондона и нью-йоркском Линкольн-центре. (См. «Театр», №29, П. Лемберский. «Победа устриц».) Последняя постановка 2007 года взяла рекордное количество премий в семи номинациях «Тони». В России «Берег утопии» взялся ставить Алексей Бородин, чему способствовал живой, остроумный русский перевод пьесы братьев Островских – Аркадия и Сергея. РАМТ работал над «Утопией» два года, а после премьеры самоотверженно взялся нести эту нелегкую ношу: сценическое действие длится девять часов. Но серьезный, глубокий разговор со зрителем вне зависимости от его возраста – главная задача РАМТа.
В «Береге утопии» Стоппард вывел на сцену (и тем самым реабилитировал) людей, имена которых мы произносили в лучшем случае с иронией, в худшем – вообще старались забыть. революционеры, социалисты, анархисты в силу сложившихся исторических обстоятельств для многих отмечены знаком вины. Стыд за содеянное, возросшее на вольнолюбивых дрожжах декабристов, не изжит до сих пор. Но у Стоппарда реформаторы и иже с ними в первую очередь театральные персонажи, а уже потом маски позапрошлой эпохи. Философ и парадоксалист, Стоппард ставит перед собой гораздо более серьезные задачи, чем достоверное воплощение обликов и образов того времени; его тема – исследование бытия в потоке времени. (Здесь кстати будет вспомнить его эпическую пьесу «Аркадия», 1993, которую в Москве очень удачно и одним из первых поставил Евгений Каменькович, а в Петербурге – Эльмо Нюганен.) В «Береге утопии» могли быть и другие имена, и другие жизненные обстоятельства, и другие исторические берега. Но для философской картины мира, к которой так стремится Стоппард, российская широта, на которую сетовал еще Достоевский, необузданность духовных исканий – как раз то, что нужно.
Благодаря углубленной и музыкальной режиссуре Алексея Бородина в тандеме с минималистской сценографией Станислава Бенедиктова становится ясно: меняются формы государственных правлений, сами социальные эпохи, но человек не меняется. Он сталкивается с одними и теми же ошибками (наступает на те же грабли) и все так же не способен извлечь уроки из собственной жизни и опыта предшественников.
У Стоппарда время и пространство конкретно и символично одновременно, вроде чистых платоновских эйдосов, в которых отражается неприглядная действительность. Именно на фоне высоких идей становится так видна грешность бытия, и тогда встает извечный вопрос о смысле жизни. помимо онтологического вектора Стоппарду удалось понять русских характер, погрузив его в межнациональный и вневременной космос. Хотя «Берег утопии» прежде всего драма идей и только потом драма характеров.
Помимо сценических сложностей (9 часов игрового времени), помимо огромного количества персонажей, временной (с 1833-го по 1868 год) и пространственной протяженности (то усадьба Прямухино, то Москва, то Париж, то Лондон, то Женева…), самая большая сложность заключается в способе актерского существования. Как интеллектуальная драма произведение Стоппарда требует предельного вербального погружения (когда слово наполнено смыслом, одухотворено идеей) и особого, дистанцированного отношения к персонажам. Честно говоря, не всем пока это удается. Чаще текст придавливается характером, утяжеляется его имитацией (этим грешат в основном актрисы) или тонет в сверхстарательном исполнении. Режиссура, опирающаяся на ритмично организованные мизансцены (когда лирические сцены сменяются эксцентрикой, а серьезность углубляется иронией) как на каркас, в этих случаях не спасает.
Станислав Бенедиктов увеличил сцену, выдвинув просцениум в партер, причем не столько для того, чтобы вовлечь зрителей в действо, сколько для того, чтобы заполнить пространство воздухом эпохи. Лаконичны детали антуража: сервированный стол, стулья, скамейки. Сама декорация представляет собой два смещенных в проекции креста, наложенных в перспективе друг на друга и напоминающих то мачты корабля, то перекладины виселицы. Справа подвешен колокол – смыслообразующая точка в пространстве; его звон будет предварять и завершать каждую сцену, своего рода ступенька вверх по невидимой лестнице постижения смыслов. С колосников свисают фанерные листы, на которых то играют солнечные зайчики, то появляются разноязычные литеры. В таком пространстве, да еще при мягком свете, персонажи, одетые в костюмы белых и бежевых тонов, кажутся сказочными.
Вот за обеденным столом щебечет семейство Бакуниных. Властный отец Александр Бакунин (Виктор Цымбал) будто предвидит катастрофы, что суждены его детям, и принимает это предчувствие по-христиански смиренно, как неизбежное. Его четырем обворожительным дочерям суждено вскружить головы выдающимся российским умам, а сыну Михаилу (Степан Морозов) выпадет роль главного анархиста Европы…
Потом организованная массовка меняет декорации, переносит в глубину сцены стол, стулья и прочую предметность – монтировщики в роли народа. «Народ» образует на стыке с дворянством и революционерами-разночинцами два противоположных полюса. Одни все время говорят, спорят, шокируют свободой нравов; другие безмолвно трудятся, подставляя спины под хозяйские тумаки, а на отдыхе голосят хором и лихо приплясывают. Воплощение народности – обаятельный гармонист, равнодушный ко всему, что не касается его самодовольной утробы. Интеллигенция, инородная субстанция, физически ущербна, но духовно развита, с ярко выраженными странностями.
Например, появление Белинского. Сначала за сценой слышен собачий лай, потом в потрепанном пальтишке, в кепке, с чемоданом в руке вбегает критик. Споткнувшись, как Чарли Чаплин, падает на авансцене, потом, поднявшись, подходит к столу и пытается присесть, но натыкается на уже устроившуюся на стуле барышню и, осознав конфуз ситуации, в смущении тут же убегает за кулисы.
Но все-таки Евгений Редько создает фигуру скорее трагическую. Голос у Белинского-Редько хрипловато сорван, жесты неловки и стремительны, печальные глаза полны огня. Все это не столько знаки незаурядности, сколько проявление совестливости, когда душа болит за дело и осознает собственное несовершенство. Вот он с удочкой в руках. А вот, сидя на стуле и скромно потупив взор, говорит: «У нас нет литературы!» или «Россия – материк суеверия и рабства». Белинский – служитель искусства, критик по призванию. Литература для него не профессия, а дело жизни; когда «книга за горло хватает» - тут даже незнание иностранных языков не помеха. Хотя изъяны в образовании ранят его глубоко. Когда аристократ Чаадаев (Алексей Маслов) приносит ему свою рукопись, Белинский от ужаса обхватывает голову руками и падает со стула. Чаадаев, увидя эту картину, тихо произносит: «Я принесу текст на русском языке». Белинский в этой сцене снова похож на Чаплина.
Полная противоположность Белинскому – Михаил Бакунин со своим девизом: «иллюзия, все только иллюзия». Один ратует за реальность, другой бежит от нее: «вечное бегство в абстракцию» или «громыхание речитативов» (Белинский о Бакунине). Но этот страстный любитель философии как-то быстро меняет свои привязанности – от Фихте к Шеллингу, от Гегеля к Канту. Так же легко и непринужденно он занимает у всех деньги и тут же забывает про долги. Его не столько волнует «как преобразовать и обустроить Россию», сколько как дать волю своей безудержной анархистской природе, рассыпать мир, как карточный домик, в угоду игре ума и воображения. Его ключевой вопрос-вызов: «Когда следующая революция?».
Михаил Бакунин – вольнодумец, слишком легковесно пробалтывающий философские теории, вызывая тем самым сомнение в способности заразить бациллой анархизма не одно поколение. Видя его на авансцене, в окружении толпы безликих приспешников, зритель понимает, что слова этого авантюриста не так уж оторваны от действительности и что угроза воплощения его безумных идей – реальна. Но мессианство и харизма не могут быть сымитированы, либо они есть, либо их нет. И одной шляпы пилигрима, романтичного плаща и развевающегося флага явно недостаточно для полноты образа. В спектакле Михаил Бакунин в первую очередь избалованный барчук, инфантильное великовозрастное дитя, порочно влюбленное в собственную сестру Татьяну (Дарья Семенова); разрушитель, ломающий судьбы близких, а потом уже (в теории и на практике) и всех остальных. Диссидентствующий фанатик, кочующих по миру с кулаком к человечеству: «Я вам всем покажу!».
В одной из сцен спектакля пол приподнимается и образует палубу корабля, на котором уплывает наш революционный изгой, уносимы неведомой силой судьбы. Этот молох судьбы в спектакле воплощен в образе Рыжего Кота (Роман Степенский). Кот, как ему и положено, гуляет сам по себе. Он не проявляет симпатий и антипатий, взирая на мир равнодушно – как на маскарад. Поэтому герои в сцене появления кота – в клоунских костюмах с ромбами а ля Сезанн. Карнавальная суматоха резко сменяется сценой-предвестием надвигающейся катастрофы. Звучит тревожная музыка, Кот и Белинский расходятся в противоположные концы сцены, как на дуэли. И понятно, что победа здесь не за человеком. последнему остается только стоически принять неизбежное. Так, старший Бакунин на закате лет, думая о детях, горько резюмирует: «Вы выросли в раю, и потом все его разрушили». Потом он будет каждый вечер садиться на стул и, прикрыв ноги пледом, наблюдать за закатом солнца, несмотря на ослепшие от старости глаза. В словах Бакунина-старшего заключена библейская мудрость, а в его повседневном ритуале – мудрость стоическая.
Именно поток жизни – душевные треволнения героев, их влюбленности, рождения и смерти – становятся плотью спектакля, из которой произрастают идеи. Страстные высказывания героев неизъяснимыми нитями переплетены с бытовыми обстоятельствами их жизни, детерминированы реальностью. Само бытие становится главной темой спектакля, мерилом человеческих заблуждений и прозрений. Вот Люба Бакунина (Ирина Таранник) рвется, как чеховская героиня, в Москву вслед за своим суженым Станкевичем (Александр Доронин). Падает снег. Неожиданный выстрел и тема роковой дуэли не раз контрапунктом врежется в стремительный поток спектакля, паузой обозначая шаги судьбы.
Поэтическое, художественное в спектакле проявлено не только в характерах персонажей, но и мизансценически. Например, романтичный, всепонимающий Тургенев (Александр Устюгов) появляется в повторяющейся мизансцене на качелях, поскольку его положение как раз между небом и землей, между «да» и «нет», между прошлым и будущим, между настоящим и вымышленным. Герцен упрекает Тургенева в мягкотелости: «Ты со всем согласен», на что тот ему отвечает: «В какой-то степени – да!». Турген6ев молчаливо присутствует в спорах социалистов и анархистов, славянофилов и западников в качестве «золотой середины». А на встрече с прототипом Базарова он лишь спокойно выскажет свою точку зрения о пользе искусства, не обрушивая на нигилиста ни гроздьев гнева, ни водопад тирад. А потом, в доме Герцена, печально расскажет, что после выхода его романа «Отцы и дети» на него ополчились и те, и другие. Но жизнь всех рассудит и все поставит на свои, только ей ведомые места.
Вот на качелях Тургенев и Татьяна сообщают о скоропостижной кончине за границей Станкевича и о смерти Любы. А в это время в глубине сцены наряженную невестой Любу на руках пронесут в молчаливой свадебной процессии – пронзительный образ несбывшегося счастья героев. Ведь застенчивый Станкевич так и не осмелился сделать предложение любимой. В их жизни осталось только воспоминание о мимолетном музицировании в четыре руки за фортепиано и стремительном поцелуе на прощанье.
Мечты, идеи растворены в потоке жизни. мысли отражаются в реакции окружающих и в саморефлексии персонажей; серьезность намерений тут же оборачивается нелепой формой выражения этих намерений. Славянофил Аксаков (Александр Пахомов) твердит об уникальности русского народа, рьяно обрушивается на Герцена, на его социалистические утопии. Но в синей расшитой кацавейке он выглядит по-клоунски; еще комичнее, когда он кричит: «Я горжусь, что я русский!», на что ему парируют: «А люди думают, что ты перс!».
Человек – только путешественник в неведомом и чуждом ему пространстве мира, такова горькая и парадоксальная ирония Стоппарда. Оторванные от родины Тургенев и Белинский сначала горячо и заинтересованно спорят о «своем» - о Гоголе, а потом равнодушно обсуждают архитектурные красоты «чужого» им Парижа. За сценой слышен гул иностранной речи, а наши эмигранты, как залетевшие кометы, потерянно вглядываются в неведомую черноту зрительного зала. Они ведут вечную борьбу не только с обществом, но и с собой. Выживают, ибо духовные подвиги требуют физических жертв. Тургенев смущенно проговаривается о своем мочевом пузыре, а Белинский не в силах сдержать туберкулезный кашель. Последний изо всех сил рвется на родину, ибо там его острое слово найдет своего читателя, своего «современника», а «здесь всем все равно», хотя и все можно. Западная свобода печати, отсутствие цензуры вовсе не гарантируют заинтересованности читателей и востребованности творца. оторванность от родины, мира, от реальности собственной жизни – ключевая характеристика «русских» персонажей. каждый плывет к своему берегу утопии, а жизнь не прощает такого ее игнорирования, приводя героев к краху и разочарованию.
Социалист Герцен печется о всеобщем благополучии и платит за это «личную» цену. Верит, что в силах исправить мировую несправедливость, однако безнадежно страдает от жизненных испытаний.
Интересны любовные треугольники. Герцен – его жена Натали (Нелли Уварова) – немецкий поэт Гервег (Алексей Веселкин); Огарев (Алексей Розин) – его жена Натали (Рамиля Искандер) – Герцен… Революционные теории замешены на недюжинных (и нетрадиционных) страстях. Итог же всему один – разочарование в любви и потеря близких. Герцен теряет детей: глухонемого Колю и незаконнорожденных двойняшек, теряет жену, мать. Его мудрый скепсис поверяется диалектическими уроками жизни. И когда умница Герцен говорит, что если под угрозой частная собственность, то кровью будут забрызганы как либералы, так и демократы, становится ясно, какой ценой оплачены эти слова. С другой стороны, возникает мысль остаться в стороне от этой всеобщей бойни и личных интересов. Горький вывод Герцена неутешителен: «Если мы не можем устроить собственное счастье, как можно устроить счастье других?».
Так и мечется душа, бежит в абстракции и мечты, после которых больно падает в грубую и непредсказуемую реальность. Снова звучит печальный мотив – новое известие: Белинский умер. И действие тут же обращается в прошлое. «Неистовый Виссарион» на авансцене говорит обо всех этих человеческих страданиях: «Хоть одно дело в пользу одному обиженному человеку». И не бессмысленны ли уроки четы Герценых для маленького сына Коли: мальчик успевает научиться произносить свое имя незадолго до смерти. Как вихрь пролетят революционные бунты с красными флагами и песнями на баррикадах, а в итоге – «трупы в омнибусах!» (крик ужасающего отрезвления – и зависшая пауза после него). Нелепы и карикатурны эти польские, венгерские, немецкие социалисты, собирающиеся на бесконечные разговоры в кочевой квартире Герцена. А рядом рождаются новые жизни, вырастают дети, меняются поколения. Революционеры-идеалисты сменяются практиками-террористами, для которых романтическая клятва на Воробьевых горах – глупое прошлое. Агрессивные юнцы уже готовы совершить более тяжкие преступления, чем их отцы. Не наводя мостов и разрушая связи, они возвращают человечество в порочный круг ошибок и заблуждений. Чернышевский и его малосимпатичная компания бросают вслед своему бывшему кумиру: «Вы мертвец!». А постаревший, побеленный сединой Герцен обнимает дочь Ольгу, которая говорит уже по-итальянски, а потом мудро резюмирует про «зарницу личного счастья». Его последний вопрос: «Как мы живем?!» обращен в вечность, но в финале спектакля пронизывает прошлое, настоящее и будущее и звучит как колокола.
_________________
La fleur de l'illusion produit le fruit de la réalité...
|