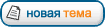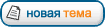|
Герцен как единица измерения свободы
Комментарии к трилогии Тома Стоппарда «Берег утопии» в Российском академическом Молодежном театре
Старый бельгийский поэт зарулил в редакцию одного московского журнала в разгар перестройки. Главред выдал дежурную цитату: «Умом Россию не понять...» Переводчица бодро добралась до: «Аршином общим не измерить...» и осеклась. Вдохновенно сверкнула очами. И как отрезала: «Ее нельзя измерить линейкой... логарифмической линейкой». - «Какой образ, - восхитился бельгиец. - Россия такая большая, а линейка совсем крошечная. Как вы сказали, Тютчев? Великий поэт-абсурдист!»
Не поверите: над сценой Российского академического молодежного театра висит наискосок гигантский аршин (деревянным, примерно 70-сантиметровым раньше мерили ткани). Да-да, под видом рейки, с обратной стороны коей крепятся прожектора. Причем на ней явственно видны деления! Уж и про аршин мало кто помнит, а Россию все так же умом не понять. Однако, как сказала вернувшаяся с форума в Давосе политолог Л.Шевцова: «Запад уже устал не понимать Россию».
Жил в XVII веке фламандский метафизик Арну Гейлинкс, сравнивший существование в этом лучшем из миров с нахождением человека на движущемся корабле. Курс пассажиру неведом, водная стихия неподвластна, на погоду он тоже влиять не в силах, и единственно, что он может бродить по палубе либо стоять, покуривая, и наслаждаться проплывающими картинами Айвазовского. Ибо свобода, по Гейлинксу, не в делании, а в созерцании и защите своего Я, т.е. Покоя, от внешних посягательств.
Подозреваю, что британец Том Стоппард, в 2000 году ставший сэром Томом и, стало быть, прижизненным классиком, один из самых модных европейских драматургов (фильм «Ро-зенкранц и Гильденстерн мертвы» видели все снобы и умники мира), держал в уме эту метафору Гейлинкса вместе с гомеровой «Одиссеей», когда давал названия своим пьесам: «Путешествие» (Vоyage), «Кораблекрушение» (Shipwreck) и «Выброшенные на берег» (Salvage), составившим трилогию «Берег Утопии». Только вот в качестве пассажиров Стоппард взял на борт отнюдь не созерцателей, а русских диссидентов во главе с Герценом. Действие начинается в 1833 в России, а завершается в 1868 под Женевой. С ремаркой: Герцену 56, ему осталось жить меньше двух лет.
Сторонний взгляд на чужую историю подчас более проницателен. К примеру, французский историк Алексис Токвиль в 1835 году предсказал, что в XX веке на международной арене выступят в качестве основных игроков Роcсия и Америка.
Чутье не подвело Стоппарда, его почти эпическое полотно появилось в нужное время и поставлено в нужном месте. Кстати, при поддержке Британского совета. Это трилогия о свободе. О том, как бились за нее полтора века назад и как ее залюбили, оболгали, продавали по дешевке и предавали. Как известно, Герцен намеревался задержаться в Лондоне на месяц, а остался на 13 лет. Так что у Стоппарда не меньше - если не больше - оснований считать выдавленного из страны царем Николаем революционера, космополита, бунтаря во всем и миллионщика - своим, гражданином Европы. Кроме того, Герцен был, на мои глаза, ближе к агностикам, чем к атеистам, а средний британский класс с молоком матери впитал агностицизм шотландца Юма - истина, необъяснимая и пугающая, находится за пределами нашего разумения; страсти же, переживания и впечатления хранятся в памяти, словно в сейфе.
Как практически везде, в Англии на приезжих не бросались с распростертыми объятьями, видя в них забавный аттракцион, который приедается, как наскучившая игрушка. Но по крайней мере островитяне не видели в чужаках агентов КГБ или Матрицы (народная английская шутка). Еще скиталец Джордано Бруно самые свои плодотворные годы провел на туманном Альбионе. Но под их (англичан. - А.М.) грубоватостью кроется какая-то жесткая уверенность в себе, благодаря которой Англия становится прибежищем для политических изгнанников всех мастей. Англичане предоставляют убежище вовсе не из-за уважения к нам, а из-за уважения к самим себе. Они изобрели понятие личной свободы и знают об этом, и сделали они это без всяких теорий по данному поводу. Они ценят свободу просто потому, что это свобода. Так что король Луи Филипп бежит прямиком через Ла-Манш под оригинальным псевдонимом - «мистер Смит», вслед за ним отправляется коммунист Барбес, социалист Блан и буржуазный республиканец Ледрю-Роллен...
Привечать изгнанников стало в старой доброй Англии традицией, а традиции в Англии неприкосновенны. На сиюминутные политические коврижки они не размениваются.
Свой долг патриота Герцен видит в, говоря языком официоза, улучшении имиджа России за рубежом. Не имиджа власти, разумеется. Царскую Россию - истероидную, коррумпированную, закручивающую гайки, держащуюся на страхе, - Герцен ненавидит яростно (см. тексты «Колокола» и «Полярной звезды»). Настоящая публицистика - это не плетение словесных арабесок, а называние вещей своими именами. Называть кошку кошкой - изо дня в день, из года в год - стократ труднее, чем броситься грудью на амбразуру. Своей просветительской миссией Герцен полагает разоблачение западных представлений о русском мужике (народе) как о простодушном, якобы по природе своей, - воре, обманщике и пропойце. «Не пора ли наконец познакомить Европу с Россией?»
Занятный факт. Появившееся в России в 18 веке французское слово patriote поначалу использовалось только в значении вольнодумец и ниспровергатель устоев.
После разудалых отечественных фильмов «Пушкин» и «Лермонтов» с их фамильярными «Саша!», «Миша!» и историческим фальшаком многократной перегонки очень было тревожно - а ну как появится на сцене Солнце русской поэзии собственной персоной. Стоппард ограничился деликатными воспоминаниями о нем Тургенева, за что отдельное спасибо.
Очень я опасался и развесистой клюквы в духе историко-костюмных блок-бастеров made in Hollywood, где частенько работают по следующей методе: сценаристы обчитываются источниками до появления в голове каши, после чего захлопывают книжки и стараются все забыть. То, что забыть не удается, подается под голливудским соусом и с голливудским же размахом, с добавлением высосанных из пальца душераздирающих подробностей.
Стоппард умудряется не только быть фактологически точным (в главном), но и заговорить всерьез о вещах, каковые в наши, слетающие с катушек, дни могут показаться неуместными. О чести. О верности принципам. О человеческом достоинстве, наконец. И хотя собирает он жизнь Герцена и товарищей из деталей общеизвестной фактуры, ему так здорово удается подогнать одну к другой и с такой симпатией к персонажам, что диву даешься - откуда в британце российская грусть.
Сперва я недоумевал, зачем понадобилось подвергать людей изощренной пытке - смотреть три спектакля в один день. Не каждый такое выдержит. Почему нельзя было приходить в театр три вечера подряд, на сытый желудок, без экстрима. Возможно, я ошибался. Спектакль эпического масштаба, перенаселенный персонажами и идеологически раскаленный нужно смотреть в один присест, чтобы пробрало до костей. Чтобы уходя из театра, ты на своей шкуре ощутил: прогнило что-то в датском королевстве.
А если без иронии - то были 10 часов уроков ненавязчивого нонконформизма. Юношам, обдумывающим житье, сходить в театр или хотя бы прочесть трилогию крайне желательно. Не уверен, что жизнь они проживут безбедную и счастливую, зато у них появится шанс не вырасти негодяями.
Если бы Стоппарда не было, его следовало бы выдумать. Он сравним с зарубежными арбитрами, которых приглашают судить важнейшие матчи нашего далеко не самого чистого в мире футбольного чемпионата - дабы избежать обвинений в подкупе местных рефери. Иностранец тоже ошибается, но в предвзятости его заподозрить трудно: он здесь сбоку припека.
Стоппард чист перед нашей историей, игрушечными партиями, карманной Думой. Его больше интересует, простите за пафос, как оно все было на самом деле; за какие такие прегрешения были изгнаны из страны Герцен с Огаревым; кому было выгодно держать в рабстве крестьян (в Англии, напомню, тотального рабства никогда не было); что творилось в сфере духа, что двигало писателями и откуда взялась интеллигенция, представителям коей вменялось в обязанность идти супротив власти; кто такие диссиденты и так ли они страшны, как их малюют; и в каких отношениях между собой пребывали европейские лидеры мелкобуржуазных и левых партий (об этом емко высказался Блан: «По одиночке мы ничто, все вместе мы дерьмо».)
Сам того не подозревая, Стоппард создал матрицу для штампования историко-биографических пьес. Его опыт будет изучен, классифицирован, разложен по полочкам (так в каждом жанре голливудской продукции поминутно рассчитаны сценарные ходы и реакции зрителей). Его техническая оснащенность близка к совершенству. Он блистательный стилизатор и пародист, по трилогии разбросана масса отсылок к русской классике. Он раскрутил и довел до ума метафору Рыжего Кота (он же Молох, он же Судьба, он же Случай, он же Смерть), являющегося из ниоткуда и уходящего в никуда, и эта легкая мистика (когда ее много, начинается дикая дидактика) в трилогии о закоренелых материалистах (не считая Тургенева) придает ей новое измерение. Стоппард не рассусоливает, найдя выигрышный ход, не тянет кота (пардон за каламбур) за хвост, а выбрасывает, поиграв, как вчерашнюю газету. Темпоритм прежде всего. Но, когда ловишь рыбу в горной речке, лучше всего она клюет в омутах: самое главное происходит в паузах.
Спасибо Стоппарду и за то, что он вдохнул жизнь в имена, еще со школьной скамьи смахивавшие на ископаемых. В этом прелесть постмодернизма. Воскресение ждет не только маршалов, но и солдат культуры, и покойники весело подмигивают нам из глубин темноты. Даже окаменелые на треть участки мозга делаются activated. («А кто такой Станкевич?» - шушукаются зрители в антракте. «А Грановский чем по жизни занимался?»). Так поздней весной в детстве сбиваешь проржавевший висячий замок с дачной сараюшки, доверху набитой всякой всячиной, как память громкоговорящего попугая, дергаешь скрипучую дверь и, оп-ля, на тебя выплескивается поток поленьев, грабель, лопат, тяпок каких-то и - вот он, долгожданный велик. Многое из того, что было прочтено в 70-х - именно в те годы интеллигенция массово эмигрировала в XIX век - в отжившем сердце ожило. Сквозь течение пьес проступают страницы автобиографической прозы Герцена, дневников Тургенева, исторических анекдотов, хроник, учебников...
Действие совершенно хитового «Путешествия» развивается в двух планах: на уровне идей - в виде мужских разговоров, как уточнила бы героиня чеховской «Свадьбы», «о непонятном», и на бытовом - в виде суетливого щебетания дам приятных во всех отношениях и не очень. Интрижки, шуры-муры, страсти-мордасти, любовь-морковь, муси-пуси, незапланированные дети - словом, весь этот джаз повседневья.
Коли существует прирожденный инстинкт убийцы, должен быть и инстинкт драматурга. Полное ощущение, что в голову Соппарда вмонтирована хитрая машинка, позволяющая точно выдержать баланс между порханием в эмпиреях и обыденностью. Кто-то скажет: слишком много бытовухи, знаков конкретного времени. А на мой вкус, толика здоровой попсовости (в смысле заботы о том, чтобы публика не дремала) никому не вредила. Как переводчик я перелопатил уйму пьес, полных зашкаливающего интеллектуализма, но абсолютно мертвых. А «Путешествие» смотрится так же легко, как ухает в пищевод первая рюмка стремительной водки. Думаешь: ай да Стоппард, ай да son of a bitch, - как только в точке пересечения возвышенного плана с планом приземленным в очередной раз высекается искра юмора.
Вот реакционный историк Шевырев предлагает Чаадаеву опубликовать «Философические письма» в «Московском наблюдателе». Вопрос в том, как провести через цензуру многострадальный текст: «Мы, русские, не принадлежа ни к Востоку, ни к Западу, остались в стороне от других народов, стремившихся к просвещению. Возрождение обошло нас, пока мы сидели в своих норах».
ШЕВЫРЕВ. Это вполне возможно, я уверен, только надо изменить одно или два слова. (Молчание.) Два. Я бы просил вашего позволения изменить два слова. (Молчание.) «Россия» и «мы»
ЧААДАЕВ. «Россия» и «мы».
ШЕВЫРЕВ. «Мы», «нас», «наше»... Они вроде красных флажков для цензора.
ЧААДАЕВ. А вместо них... что же?
ШЕВЫРЕВ. Я бы предложил «некоторые люди».
ЧААДАЕВ. «Некоторые люди»?
ШЕВЫРЕВ. Да.
ЧААДАЕВ. Оригинально.
ШЕВЫРЕВ. Благодарю.
ЧААДАЕВ (пробует вслух). Некоторые люди, не принадлежа ни к Востоку, ни к Западу, остались в стороне от других народов... Возрождение обошло некоторых людей... Некоторые люди сидели в своих норах... (Возвращает страницы).
Чисто английский юмор в русской адаптации. Но - контекст, контекст. Все это было бы смешно... Английский юмор лаконичен, суховат и одновременно убийственен. Он привык вывертывать реальность наизнанку, он наоборотный, английский юмор. С Россией этот фокус не проходит, у ней особенная стать. Из монолога Белинского. «Россия!» А, ну да, извините. Вы же сами понимаете: глухомань - не история, а варварство; не закон, а деспотизм; не героизм, а грубая сила, и вдобавок эти всем довольные крепостные. Для мира мы лишь наглядный пример того, чего следует избегать». В «Былом и думах» есть поразительно грустное письмо к Герцену одного из стоппардовских персонажей, профессора истории Грановского.
«Положение наше, - пишет он в 1850 году, - становится нестерпимее день ото дня. Всякое движение на Западе отзывается у нас стеснительной мерой. Доносы идут тысячами. Обо мне в течение трех месяцев два раза собирали справки. Но что значит личная опасность в сравнении с общими страданиями и гнетом. Университеты предполагалось закрыть (...), возвысили плату со студентов и уменьшили их число законом, в силу которого не может быть в университете больше 300 студентов. Деспотизм громко говорит, что не может ужиться с просвещением. Для кадетских корпусов составлены новые программы (...). Священникам предписано внушать кадетам, что величие Христа заключается преимущественно в покорности властям. Он выставляется образцом подчинения и дисциплины. Учитель истории (...) должен показать величие не понятой историками римской империи, которой недоставало только одного - наследственности!»
Так и хочется подверстать к этому перечню невзгод кое-что из сегодняшнего дня. Скажем, что расходы на оборонку в бюджете выросли на 45%, а культуре, как кость, бросили сущие копейки; что в школе сокращено количе¬ство часов на литературу и т. д. и т. п. И Грановский резюмирует.
«Есть от чего сойти с ума. Благо Белинскому, умершему вовремя. Много порядочных людей впало в отчаяние и с тупым спокойствием смотрит на происходящее, - когда же развалится этот мир?...»
Вот оно где зарыто, русское эсхатологическое сознание. Одни смотрят на закат цивилизации с тупым спокойствием, другие помогают миру развалиться на части. Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем... А что затем? Они думают отсидеться в бункере? Или это тяга к коллективному коллапсу, желание хлопнуть посильнее дверью перед уходом? Черт его знает. Мир летит в тартарары - и пусть его. Ату его. Надобно, говорят иные литераторы, чуток его в спину подтолкнуть - и будет всем счастье. Хаос в умах плодит новых бесов в геометрической прогрессии. Человек нормальный испытывает перманентный стресс, страх и сбивается с курса. Хотя Кащенко утверждал, что абсолютно нормальных людей не бывает, а его британский коллега Лэнг подвергал сомнению сам термин «психологическое здоровье», и это, безусловно, очень обнадеживает. Но одновременно со страхом часть наших сограждан испытывает от приближения конца света любопытство, упоение и радость неофита. Самоубийственное ликование. После нас! Хоть!! Потоп!!!
БАКУНИН. Это твоя вечная ошибка - сначала думать, а потом делать. Действуй, уничтожай все, а идеи придут своим чередом.
ГЕРЦЕН. Что за страсть разрушать?
БАКУНИН. Это творческая страсть!
ГЕРЦЕН. Белинский, спаси меня от этого безумца.
У Стоппарда Бакунин проходит путь от добрейшей души раздолбая и позера до стреляющего у всех деньги жизнерадостного анархиста, политкорректно окарикатуренного, как образ Нестора Махно в советских фильмах. Достоевский был зорче. Его Петруша Верховенский из «Бесов», дробясь в десятке лиц, сегодня обживается в телеящике, не слезает с голубого экрана, сеет ненависть по полной. «Мы провозгласили разрушение... почему, почему, опять-таки, эта идейка так обаятельна! Но надо, надо косточки поразмять... Раскачка такая пойдет, какой еще мир не видал...» Когда наш ястреб и милитарист в одном лице заявляет о возможности нанесения ядерного удара по любой точке мира, где якобы скрываются террористы, а ура-патриот и провокатор в одном флаконе озвучивает в прямом эфире популярного радио цель удара - Лондон (How do you do, sir Tom), не у одного меня по позвоночному столбу пробегает неприятный холодок. Как напоминание о глумливой мамлеевской фразе из «Мира и хохота», которая многое, очень многое объясняет: «Хорошо бы, если бы вместо всей Вселенной была одна Расея наша».
ТУРГЕНЕВ (мягко). Ты не думаешь, что доводить все до крайности - это чисто русская черта.
ГЕРЦЕН (холодно). Уверенность в правоте - свойство молодости. А Россия молода.
Лиотар в «Состоянии постмодерна» делает вывод, что идеология нынче не рождает веры. Той веры, которой горы можно сдвинуть. Идеология годна лишь на то, чтобы двигать массами. По моему разумению, роль идеологии в наше время с успехом исполняет ненависть, специально выращиваемая в пробирке масс-медиа. В броской фирменной упаковке. Ненависть ко всему: к чужакам оттуда, к не-на-шим отсюда, к богатым (людям, странам), к бедным (странам, людям) и проч. И проч. Но главное - к свободе. Мы знаем как надо, вещает вкрадчивый экранный голос. Зачем вам выбор, выбор - лишняя головная боль, мы избавим вас от проблем, нет мозгов - нет боли.
Такие люди, как Герцен, всегда были в России штучной выделки. Те, кто осмеливаются утверждать, что свободный человек счастливее несвободного.
...Есть ли еще в нашей стране люди, которые болеют за народное просвещение? Остались ли еще потомки тех разночинцев в рассохлых истоптанных сапогах? Отчего бы нам не заняться раскруткой спектакля о классиках русской литературы? Что мешает устроить обсуждение трилогии, пригласить режиссера Алексея Бородина и актеров во главе с исполнителем роли Герцена Ильей Исаевым, историков и литературоведов, критиков и переводчиков. Взять интервью у Стоппарда, наконец. С ума сойти, полтора года репетиций! Это же как спектакль в спектакле. Художники, костюмеры, осветители, у всех уникальный опыт, интересный и зрителям, и профессионалам. Не мной замечено, что ежели смотришь спектакль и не замечаешь, как он сделан, значит, вещь это стоящая. Едва лишь в мозгу включается анализатор, зрелище распадается на фрагменты.
Уже дома я понял, почему минут на тридцать выпал в осадок. Мне не хватило Белинского. Зачем, зачем он так рано покинул сей мир! В шестом классе я любил его за то, что он любил Джеймса Фенимора Купера. Особенно мне нравились придурошные стишки: «Когда благоволения / Текут по бороде...» В десятом классе я прочел в самиздате эстета Набокова, и наши пути с неистовым критиком разошлись. Он однако ж продолжил меня преследовать, я конспектировал его по разным поводам, как штатный писарь на галере. А уж когда выяснилось, что мой лучший друг Петров женится на киевлянке Белинской (no relation)...
Но как же он играет чахоточного Виссариона, актер Евгений Редько! С каким драйвом! С каким мастерством дирижирует зрительскими эмоциями! Поверх всех стереотипов. Одержимый идеей разгадать смысл искусства «в нашей стране, где нельзя говорить о свободе, поскольку ее нет, а о науке и политике тоже нельзя по той же причине. Если можно узнать хоть какую-то правду об искусстве, то что-то можно понять и о свободе, и о политике, и о науке, и об истории...»
Вы, наверное, помните ошеломительное выступление Евгения Евтушенко на 1-м Съезде народных депутатов, где он уподобил правительство динозавру с гигантским неповоротливым телом и крохотной головкой. Даже Горбачев смеялся. Но я-то, знаток Белинского, знал, откуда у динозавра ноги растут: «Да вы посмотрите на нас! Гигантский младенец с крошечной головой, набитой преклонением перед всем иностранным... и огромное беспомощное тело, барахтающееся в собственных испражнениях, материк рабства и суеверий - вот что такое Россия - удерживаемая полицейскими осведомителями...»
Если когда-нибудь меня попросят объяснить, в чем разница между попсой галимой и рок-н-роллом, за примером далеко ходить не придется.
Бакунин удался Стоппарду на славу, он явно в тройке самых харизматичных персонажей трилогии. Образ дан в развитии, и Степану Морозову есть что играть. Розовощекий юноша, увлеченный философией (кстати, Герцен пишет, что Бакунин выучил немецкий, читая Фихте и Шеллинга, ибо поставил своей целью прочесть Гегеля в оригинале; ничего себе разгильдяй). А вот он, заматеревший, в апофеозе счастья, размахивает красным знаменем на парижских баррикадах, а вот, с сединой в бороде, с бесом в ребре, кряхтит о том, что «революции кончились», и пускается на поиски свежих смут и устриц...
Нет, на самом деле Бакунин не столь приглаженно однозначен. Мой дедушка тоже закончил артиллерийский корпус, правда, в Москве и лет на 80 с гаком позже. Артиллерия была элитным видом войск. Помимо массы спецпредметов, будущие офицеры изучали математику, латынь и древнегреческий (для дисциплины мысли!), иностранные языки. Времени свободного у них не имелось вовсе, чай, не гусары. Случайных людей там практически не было, отбор был строжайший. Дед воевал три года, командовал батареей, эмигрировать не захотел, стрелять в своих тоже, большевиков называл всю жизнь бандитами, работал завкафедрой латинского языка Первого мединститута, избежал посадки только потому, что ректор, Б.Д.Петров, был влиятельным членом ЦК, и для его докторской дед ночами переводил Авиценну. В отличие от Герцена я в мистику верю, ибо в детстве, играючи на Сивцевом в футбол, подружился со своим ровесником, оказавшимся внуком Б.Д.Петрова. «У нас с вашим дедом были идеологические разногласия, - милейший Борис Дмитриевич остался убежденным партийцем до конца, - но они забывались за шахматной доской».
Добавлю, что Бакунин был кумиром Кропоткина, одного из, как говорят, десяти лучших ученых своего времени. Я не занимаюсь ни очернением, ни оправданием Бакунина, хотя не симпатизирую разрушителям и фанатикам. Я просто хочу подчеркнуть, что ставший мизантропом и богоборцем бывший офицер Бакунин был гораздо более умным, образованным, одаренным и озлобленным человеком, чем персонаж Стоппарда. И оттого гораздо более страшным.
В постмодернисткой пьесе не возбраняются легкие смещения-сдвиги, они не случайны, это часть игры с эрудитом в зале. Возьмем, к примеру, «Путешествие». Начало второго акта.
Ремарка: за столом сидят Николай Огарев и Николай Сазонов, оба 22 лет.
САЗОНОВ. Это же ты пел «Марсельезу».
ОГАРЕВ. Я был пьян. Я и теперь еще пьян. (Ударяет кулаком по стакану и разбивает его вдребезги). Мне уже двадцать один, и ничего не сделано для бессмертия!
А теперь открываем «Былое и думы». «Помню я, что еще во времена студентские мы раз сидели с Вадимом (Пассеком, впоследствии славянофилом. - А.М.) за рейнвейном; он становился мрачнее и мрачнее и вдруг со слезами на глазах повторил слова Дон-Карлоса, повторившего, в свою очередь, слова Юлия Цезаря: «Двадцать три года, и ничего не сделано для бессмертия!» Его это так огорчило, что он изо всех сил ударил ладонью по зеленой рюмке и глубоко разрезал себе руку».
Я обнаружил еще парочку подобных подмен. Но, повторяю, it’s all in the game - таковы правила игры. В калейдоскопе сменяющихся дат и событий не утихают разговоры о народе. Он словно бы стоит молчаливой безликой массой на невидимом заднем плане. Порой отдельные представители его участвуют в действии: то живописные пейзане и пейзанки, с песней расставляющие столы и стулья в барской усадьбе, то горожане вполне пролетарского вида, выходящие на авансцену (истории?). Короче, обычную массовку можно без натяжки причислить к действующим лицам в качестве то ли джокера, то ли темной лошадки.
ОГАРЕВ. Но ведь мы на стороне народа, правда?
ГЕРЦЕН. Народ сам создаст свою собственную Россию. Нужно терпение.
Народы - существа столь же нравственные, как и отдельные люди, - утверждал Чаадаев, малоэффективный политолог. Он первым поставил России диагноз - в переводе на современный русский - больна инфантилизмом. Иначе и быть не могло, власть у нас всегда относилась к народу с патерналистских позиций и не оставляла своими заботами. Народ, народность - наваждение XIX века. Какой он? Румянощекий крестьянин-богоносец? Длиннобородый мудрый старец или отвязанный подросток? А может, вороватый лодырь? На чьей он стороне? Случись что, за кем пойдет? Каждый персонаж строит на народ свои планы. Вот мака-брический Чернышевский, зовущий Русь к топору. Вот Бакунин с его «народ и есть революция». Вот народник Герцен, открывший, если верить Ленину, дорогу разночинцам.
ГЕРЦЕН. Народ? Народ больше интересуется картофелем, чем свободой. Народ считает, что равенство - это когда всех притесняют одинаково. Народ любит власть и не доверяет таланту. Им главное, чтобы власть правила за них, а не против них. А править самим им даже не приходит в голову.
И здесь же издевку наводящий на Герцена с Огаревым саркастический Тургенев, сильно сомневающийся, что русский народ? такой простой и неиспорченный? и покажет Западу, как социализм раздавит капитализм в колыбели.
ТУРГЕНЕВ. Перед вами человек, который сделал себе имя на русских крестьянах, и они ничем не отличаются от итальянских, французских или немецких крестьян.
Консерваторы par excellence. Дайте им время, и они перегонят любого
француза в своей тяге к буржуазным ценностям и в серости среднего класса. Мы европейцы, мы просто опаздываем, вот и все.
Однако трезвые голоса не хочет расслышать никто. Прогрессисты, эмансипе, философы, публицисты, стихотворцы лишь о нем, родном, пекутся, все из-за него убиваются, а иные и пострадать за народ готовы. «Мне неясно, каким образом общество достигнет благополучия, - восклицает Герцен, - если все только и делают, что приносят себя в жертву и никто не получает удовольствия от жизни». Кроме, кажется, эпикурейца Бакунина. Ближе к концу начинаешь мучиться смутной догадкой: а не есть ли «Берег Утопии» вариацией на тему «В ожидании Годо» Беккета, где вместо некоего спасителя в финале приходит в отсветах зарниц и грохоте грома - ну да, конечно же - гроза! Ведь истории наплевать на интеллектуалов, она непредсказуема, как погода, и капризнее женщин. Через полвека громыхнет так, что никому мало не покажется. В потоке неоконьюнктурных фильмов, телепрограмм, биографий, ток-шоу, псевдоисторических учебников «Берег Утопии» Стоппарда высится, как зеленый островок посреди вялотекущей Леты.
«Восстание декабристов разбудило и «очистило» его», - писал о Герцене вождь мирового пролетариата. Зачем ему, кстати сказать, понадобились кавычки? Чтобы не заподозрили в использовании поповского лексикона? В отличие от Ленина и Бакунина, Герцен был против террора. Однако террористов в лице бомбистов и прочих большевиков подарила миру именно Россия. Чем мы удивим мир в XXI веке? Бог весть.
Поэтому-то поэт строго, как Минздрав, предупредил:
Мы спать хотим... И никуда не деться нам
От жажды сна и жажды всех будить...
Ах, декабристы, не будите Герцена,
Нельзя в России никого будить.
_________________
La fleur de l'illusion produit le fruit de la réalité...
|