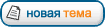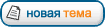|
Фрасуаза Саган "От всей души"
Горбачев: в любимчиках у истории ходят лишь победители
1989 год
Очень редко случается, чтобы История одарила одного из своих великих персонажей – сразу, с самого первого его появления на ее подмостках – всей властью, славой, тайной и популярностью, которые достаются героям позже. Наполеону после первого успеха при Директории пришлось отправиться в Египет, столкнуться там с тяготами экзотического рода и лишь потом возобновить свое восхождение на трон и к Империи. Если говорить о королях, им, как правило, приходилось дожидаться смерти матери или падения регента, чтобы стать всемогущими. Де Голль три года просидел в Лондоне; Гитлер провел несколько месяцев в тюрьме после своей первой Мюнхенской истерики (я уж не говорю о необузданных калифах на час – полковниках из Латинской Америки, – которых и по именам-то не успевают запомнить, впрочем, их имена никоим образом не смогут повлиять на судьбы мира).
Короче говоря, если человек сразу оказался на вершине, при том что никто даже не заметил, как он взбирался по ступеням служебной лестницы или перескакивал через них, – это случай исключительный.
А ведь именно так произошло с Горбачевым: в один прекрасный день он возглавил Верховный Совет, в одночасье став хозяином России, то есть человеком, в чьих силах уничтожить Европу и уж тем более тиранить двести с лишним миллионов человек. Он молниеносно завоевал наш мир благодаря средствам массовой информации, а ведь его никогда не видели склоненным над плечом Брежнева или в профиль за спиной Андропова. Его появление было неожиданным, на него не возлагали надежд и, следовательно, не боялись, но при виде этого человека в 1985 году триста членов Президиума русской Коммунистической партии (так в тексте. – Прим. перев.) должны были встать, а затем сесть.
Мир был потрясен вдвойне. Дело в том, что в течение семидесяти с лишним лет этот пост неизменно доставался старцу с надменным выражением застывшего лица, который третировал нас или отчаянно, порой до смешного откровенно врал нам. Одетые в костюмы, явно пошитые из синтетики, за неимением сермяги, эти восьмидесятилетние долгожители требовали от нас уважения, не платя нам той же монетой, и несли на весь мир несусветную ложь. Мало-помалу мы свыклись с тем, что эти одержимые старцы называют нас декадентами и похотливыми гадинами. И тем не менее эти старики представляли для нас Россию, русский дух, героев Достоевского, героев Толстого, балалайки и все то, за что мы в глубине души любили, не зная его – этот такой близкий народ, с которым почему-то вечно находились в состоянии то холодной войны, то разрядки. Шло время с его перипетиями, и мы привыкли к этому состоянию, привыкли к тому, что от незнакомых соседей нас отделяет стена – иногда символическая, иногда реальная, стальная стена. Тем более что каждый год репортаж, свидетельство или чей-то рассказ напоминали нам о существовании за нею мучеников или фанатиков – кому как ближе, – усиливая у одних из нас сострадание, а у других – страх и даже ненависть. Ах, как же далеко мы были от знаменитой русской теплоты, от русской души, прямо сказать, у черта на куличках, а чертями, дьяволами были те, кто от Сталина до Андропова олицетворял собой беспрецедентную – во всяком случае, по цинизму – тиранию: ведь, утверждая, что ее вдохновляет сам народ, она этот народ третировала и душила! Душила до такой степени, что если американцы в наших глазах были, как правило, грубыми материалистами, англичане – спесивцами, испанцы – брюзгами, а итальянцы – болтунами, то русские были никем – русскими, и только! У них не было личности, своеобразия, своего лица. Как же нужно угнетать и подавлять нацию, чтобы ее нельзя было представить себе даже через недостатки… Дело дошло до того, что самые решительные противники страны даже не обсуждали ее плачевного положения и упадка. Просто одни говорили, что русские получили то, что хотели, а другие называли их страдальцами. Конечно, последних становилось все больше, учитывая откровения вырвавшихся из ГУЛАГа. Своеобразное сострадание, замешенное на страхе, постепенно сглаживаемое рассказами очевидцев – побывать за «железным занавесом» стало проще, но впечатления были по-прежнему мрачными, – определило отношение к России; иногда это чувство обострялось в связи с деятельностью такого удивительного человека, как Сахаров, или ужасным нападением на северокорейский (так в тексте, на самом деле южнокорейский. – Прим. перев.) «Боинг». И, разумеется, в связи с кризисами в социалистических странах, ближайших соседях, дорого платящих за близость к Большому Медведю.
Вот на таком-то незыблемо-мрачном фоне и появился этот мальчуган пятидесяти одного года от роду, этот русский, этот человек из другого мира. (Разве можно представить себе американского политика, который не удалил бы со лба родимое пятно а-ля Достоевский?) Но этот человек говорил на том же языке, что и мы, он говорил то, о чем думал весь мир, начиная с 1945 года: атомная война – ужасная вещь, когда-нибудь она обязательно разразится из-за перенасыщенности вооружениями, и этот процесс нужно остановить. Но в то же время этот человек признавал, что и русским женщинам, и детям угрожает эта бомба. За русским народом он признавал те же потребности, те же страхи, которыми живут и наши народы; более того, ту же ответственность в случае несчастья.
Западный мир остолбенел. Ладно еще, что этот пришелец был похож на человека, что он обладал чувством юмора, обаянием, грамотной и даже отточенной речью. Он хорошо одевался, не размахивал туфлей, не употреблял нецензурных выражений – непривычно, но терпимо. А вот что он разделял наши страхи – это уж слишком, ведь нашими страхами мы были обязаны именно ему, им, России! И в 85-м году мир взирал с тревогой и недоверием на этого русского, облеченного слишком большой властью и оказавшегося слишком неожиданно нормальным человеком. В умах царили изумление, недоумение, подозрительность, но об облегчении и речи не было, зато облегчение он принес в Россию… Потребовалось три или четыре года неопровержимых доказательств, чтобы мир от всей души признал (естественно, французы были последними), что у России появился гуманный руководитель, которому нужно помочь.
Впрочем, многие еще держатся прежних позиций. Многие, путая подозрительность с интуицией, приходят в раж при виде новых доказательств доброй воли и вопят, что все это лишь стратегические уловки. Впору задаться вопросом: не чувствовали бы эти люди более спокойно и, следовательно, согласились бы оказать помощь, если бы, например, в Афганистане продолжала литься кровь, Венгрия и Польша находились бы под властью штыков, а Сахаров по-прежнему страдал в Горьком. На самом деле, этот образ жестокой России был морально необходим многим. Как же иначе можно смириться с ужасами фашизма, например, Пиночета? Для этого надо было поднять на щит «худшее зло», ГУЛАГ. Как иначе защищать бессердечие вечной гонки за прибылью, если не показывать участникам этой гонки жупела, чудовище, русский коммунизм, где любое благородное начинание обречено? Иметь подлых врагов – это еще не все, нужно, чтобы весь мир признал их таковыми.
Как бы то ни было, это в порядке вещей: горбачевские перемены проходили на глазах пораженного (и восхищенного) русского народа и на глазах пораженного (и недоверчивого) всего мира. Ведь вывести Россию, эту гигантскую страну, из семидесятилетнего террора и застоя, вырвать ее из лап страха и бездеятельности не взялся бы, казалось, даже сам Сизиф. И здесь возникает ряд вопросов: когда Горбачев решил, что необходимо что-то делать, что к делу надо приступать немедля и что именно ему предстоит решать эту задачу? Как он мог – с его амбициями и его гуманизмом (ибо в нем было и то и другое) – действовать в окружении холодных аппаратчиков из Кремля? Как он осмелился, достигнув вершины власти, раскрыть свои планы врагам, одновременно таким близким и таким далеким, и народу, который видел в нем лишь очередного несгибаемого руководителя? Как он осмелился поставить под сомнение извращенный и поддельный марксизм, страх и угрозу всему миру, не испытавшему на себе его прелести? Как этот человек, знавший все уловки и ловушки Кремля, как он осмелился встать во весь рост и сказать: «Необходимы перемены», – перед лицом своих разгневанных или загнанных в угол соратников, перед лицом смирившегося или затаившегося народа и перед лицом подозрительного или враждебного внешнего мира? И тем не менее Горбачев сделал это.
Чтобы понять его безумную, невероятную отвагу, нужно хотя бы немного знать этого человека. А о нем известно мало, или данные неточны. Русские политики были и остаются ретроградами: они до сих пор не открыли ни свои постели, ни свои сердца, а еще меньше – свои души средствам массовой информации. О них можно судить лишь по их действиям. Что же можно было сказать о Горбачеве?
Прежде всего, это – человек, который смог взять самую труднодоступную власть (потому что в России власть – дело опасное), а это подразумевало незаметность, ведь в этой стране любое своеобразие, любое выделение из общей массы могло стать роковым. И все же было необходимо, чтобы его покорность и преданность – в области политики – заметили тогдашние воротилы, к тому же в нужный момент. Это испытание требовало хладнокровия, скрытности, ловкости – если угодно, всех качеств, необходимых для классического карьериста. Но не карьеризм двигал этим человеком, во всяком случае, не он один. Ведь первейший рефлекс человека, который достиг вершины, проведя до этого тридцать лет жизни в ее предгорьях, утвердиться наверху, обустроиться и – добившись наконец того, чего желал сильнее всего на свете, – воспользоваться своим новым положением. Вариантов тут нет, или, вернее, не было до Горбачева, который, едва завладев подобной властью, поставил ее на карту, под угрозу – да так быстро и последовательно – во имя свободы и человеческого достоинства. Это было не в духе Макиавелли, или же Макиавелли соединился здесь с Дон Кихотом. Причем Дон Кихот был достаточно безумен, чтобы сознательно пойти на это невозможное пари. Ведь не случайно говаривали в простоте душевной: «Во всяком случае, после него жизнь уже не пойдет по-старому!» (А «после него» означало жестокую и окончательную расправу с Горбачевым.) Ведь не случайно хладнокровные обозреватели предсказывали падение советского лидера каждые полгода. И не случайно русский народ ежевечерне зажигал свечи во здравие Горбачева. Он постоянно находился «на грани смещения», причем смещения самым жестоким образом, потому что лидеру надо было опасаться не только своих врагов, но и друзей, будь то интеллектуалы, крестьяне, провинциалы, тех, кто был опьянен дуновением поднятого им свежего ветерка. Эти друзья поняли, что настал их час, они смогли наконец вздохнуть полной грудью, заговорить в полный голос и не преминули напомнить Горбачеву о себе, а затем и потребовать от него для себя и своих родичей того, чего им жестоко недоставало в течение семидесяти лет. И они хотели больше, гораздо больше, естественно, к тому же все сразу, а он давал им желанного совсем по чуть-чуть, иначе он не мог. Они даже не осознавали, что если Горбачев не сможет опираться на тех, кого защищал, то окажется во власти тех, с кем он боролся.
Конечно, лицо Горбачева было – и остается – спокойным, мужественным, взгляд – добродушным и любопытным, а на полных губах всегда играла улыбка, одновременно наивная и разочарованная. Конечно, он обладал физической основательностью и мощью, этой подконтрольной ему силой, которая, как я представляю себе, позволяла ему не мучиться ночами бессонницей. Но Горбачеву было прекрасно известно, что повсюду смерть подкрадывается неожиданно, особенно в Кремле. Что же тогда ему снилось после окружавших его криков и шепотков, после яростной ненависти одних, холодности, враждебности и непонимания других? На кого опираться? К кому повернуться? Было лишь несколько близких людей, несколько единомышленников там и тут, с которыми он не мог слишком часто видеться, потому что это было небезопасно как для них, так и для него. К счастью, рядом была Раиса – Раиса, которая последовала за ним, когда молодую чету выпускников МГУ Партия отправила в унылый город Ставрополь за 1200 километров от любимой молодоженами столицы. Раиса, которая прожила с ним безвыездно в этой провинции двадцать три года. С этой женщиной, которая не превратилась в огромную грузную бабу, не спилась, не опустилась, он сумел и смог разделить жизнь. Да, вечерами Горбачев встречался лишь с Раисой, как Макбет с леди Макбет. И действительно, в этих парадных, мрачных, отделанных панелями и до сих пор кровоточащих залах Кремля они слегка напоминали чету Макбетов. Правда, не в пример им, чета Горбачевых была обращена к добру, а не к преступлению, но и их окружал ропот и враждебные тени, почти призраки.
«Земля пускает так же пузыри, как и вода», – писал Шекспир все в том же «Макбете». Много пузырей породила русская земля. Множество их, пузырей, чудовищных и жестоких, еще задолго до Горбачева насадили страшный коммунистический режим и смогли его удержать: этот режим, функционировавший неумолимо, как машина, так долго позволял и поощрял самые страшные злодеяния, превратив в привычную повседневность, что теперь отличить добро от зла не легче, чем восстановить добро.
В трудном восхождении Горбачев ведет безжалостный бой против прошлого России, против ее ужасного экономического настоящего и против равнодушия Запада. И все же лично я желаю ему достичь победы. Потому что – на этот счет двух мнений быть не может, – если он выиграет свое немыслимое пари, он станет самым великим (и самым одиноким) героем ХХ века. Но в случае неудачи История позабудет о нем. Потому что, как бы ни был велик герой, у Истории, как и у народов, в любимчиках ходят лишь победители.
Октябрь 1993 года
Судьба Горбачева, которая, как я представляла себе, будет развиваться в духе Шекспира, тремя годами позже пошла в ином направлении, скорее в духе Сименона. Уже не в мрачных коридорах Кремля, а в тесных комнатах подмосковного дома травят – на сей раз просто скукой – эту знаменитую еще четыре года тому назад чету.
После трех бурных дней военного путча, во время которого самые немыслимые обвинения и разоблачения сыпались одно за другим, противореча друг другу, после этих дней, когда похитители или спасители Горбачева оказались настолько изобретательны, что сдали нервы и у такой внешне сильной и отважной женщины, как Раиса Горбачева (у нее даже парализовало руку), итак, после этих трех дней, когда выяснилось, что можно подорвать, унизить или уничтожить власть Горбачева, но самого его невозможно запятнать, я вновь увидела эту супружескую пару в одном телерепортаже, показанном в невыигрышное время. Рассказывали об их нынешней жизни. Я видела, как они отвечают на вопросы журналиста в каком-то пригороде Москвы. Я вновь увидела их, одиноких и вежливых. Я увидела, как этот всемогущий человек прогуливался по заснеженной пустынной аллее, и лишь собака осмелилась поприветствовать его. Да будет позволено мне сказать: этот человек был надеждой, спасением, спасителем, освободителем целого народа, и он вызвал в мире изумление, энтузиазм, но и величайшее недоверие. Помнят ли теперь, что с 84-го по 89-й годы ни о ком не говорили и не спорили так много во всем мире, как о Горбачеве? Самый любимый одними герой, самый страшный для других, самый почитаемый, самый ненавистный? Помнят ли сейчас все те споры, которые разгорались в ту пору по его поводу? А как осторожные люди говорили: «Очередная уловка русских! Вы еще увидите вашего Горбачева с танками у Триумфальной арки! Вы думаете, что после семидесяти пяти лет своего существования коммунизм рухнет со дня на день? Наивные!»
Я принадлежала к числу наивных. И до сих пор я из их числа – наивных и признательных. Впрочем, все те же люди, которые изображали Горбачева новым Макиавелли, хитроумным фанатиком, сегодня говорят о нем как о безличном политике, маргинале Истории, случайном человеке, марионетке без великих основополагающих идей, как о пешке, просто-напросто появившейся в нужный момент. Они заявляют все с тем же пылом: «Ну что вы, коммунизм был обречен! Об этом было известно всему свету! Это носилось в воздухе. Горбачев всего лишь на протяжении нескольких месяцев представлял массовое, неизбежное восстание жертв сталинизма. В лучшем случае он ускорил ход событий. Да и то неизвестно!.. Другой на его месте не хуже бы справился с этой задачей. Доказательство? А восставшие страны Восточной Европы, которые встряхнулись без всякого Горбачева? Нет, коммунизм умер еще до него!» Естественно, этим людям можно было бы возразить: «Да, но дело-то сделал именно он. Да, действительно, надо было отбросить семьдесят пять лет страха и недоверия. И именно он сделал это. И именно он ошеломил всех в один прекрасный день словами об атомной угрозе, об ужасах войны и о праве людей жить в мире. Именно он сказал об этом так взволнованно и искренне, что убедил сильных мира сего. И именно он решил – в отличие от своих предшественников – не посылать русскую армию на усмирение демократических инстинктов в те самые страны Восточной Европы, когда ветер свободы, поднявшийся благодаря ему в России, взметнулся на улицах Праги, Будапешта…»
Есть все же некоторые шансы на то, что вначале умолчание, а затем клевета не смогут запятнать навечно его личность и его участь, не докажут нам, что Горбачев, убежденный сталинист, затем фанатик, рядящийся в демократические перья, все время своего правления пускал пыль в глаза всему миру, а главное, одурачил русских под предлогом их освобождения. (О божественное одурачивание, такое редкое в наши времена!) Может быть, все-таки теперь, когда из этого человека с веселой улыбкой и живыми глазами пытаются сделать неуклюжего карьериста или буйнопомешанного, когда знаменитое родимое пятно, виднеющееся из-под его шляпы, становится стигматом его вероломства, хоть кто-нибудь из нас, устав от приговоров без суда и судов без защитников, вспомним, с каким изумлением, облегчением и восхищением мы смотрели на этого человека. Этот человек, для которого путешествие в Нью-Йорк или в Париж было обычным восьмичасовым или трехчасовым полетом, вернул России ее место в наших сердцах и ее место на географической карте, восстановив географию прошлого: расстояние от Парижа вновь стало четыре тысячи километров. Конечно, слишком много для Бальзака и пани Ганской, когда они были в разлуке, слишком много для Наполеона после Березины, но совсем немного для Тургенева, жившего на две столицы, и для Троцкого, нашедшего прибежище, как и все студенты и вольнодумцы того времени, в Париже.
Горбачев – приятный человек; это редкость среди политиков из Европы, да и с других континентов. Он напомнил нам, что русская душа по своей сути ближе нам, чем американская, что Толстого мы чувствуем лучше, чем Дос Пассоса, а Ивана Ильича лучше, чем Бэббита, и, что, даже если князь Андрей мог бы быть героем Фицджеральда, русские ржаные нивы все же в три раза ближе к нашим пшеничным полям, чем нескончаемые кукурузные плантации Айдахо. В конце концов, Санкт-Петербург был построен двадцатидвухлетним французским архитектором и двадцатипятилетним итальянцем, и с эстетической точки зрения этот город ближе нам, чем Сан-Франциско. Конечно, я не утверждаю, что Горбачев задумывался над этим, но нас он заставил задуматься. Он вернул нам цивилизованную идею старой Европы, включающую в себя Россию, ту Россию, которую со времен «Войны и мира» мы представляли себе лишь по кино.
Раиса также была приятной женщиной, с мужем она, судя по всему, прекрасно ладила, однако с холодным снобизмом третировала госпожу Рейган, которая явно не нравилась ей (об этом наперебой кричали журналисты). И инстинктивно мы были на стороне Раисы, которая следовала за мужем, разделяя его взгляды, а не на стороне Нэнси Рейган, которая шла впереди мужа и диктовала тому, что он должен сказать. А сдержанная и натянутая улыбка Раисы выглядела, пожалуй, естественнее, чем безупречно ровные зубы, показанные в американской улыбке госпожой Рейган. Ее улыбка действительно была жестокой. Да только, когда Горбачев попросил у Рейгана и у Европы помощи, чтобы накормить свой народ, свою роль сыграла геополитика. И, разумеется, вновь обретенные союзники, фанатики Горби, самые просвещенные и внимательные к усилиям советского лидера главы государств не сделали того, что надо было сделать. Слишком долго они мялись, раздумывали, колебались, настолько долго, что у Горби уже не оставалось шансов. Одежды спасителя он был вынужден сменить на шкуру козла отпущения. Другие люди вытолкнули его и заняли его место. И вскоре вслед за теми же умствованиями к власти придет армия. Голодная армия, которой не платят зарплаты, потерявшая ориентиры и убеждения, воевавшая в Афганистане и вернувшаяся к разбитому корыту. Эта армия БУДЕТ ОБЯЗАНА взять власть. И ей не избежать фашистских или коммунистических искушений, порожденных сочетанием нищеты и силы.
Страна, где там и сям старые заброшенные атомные заводы ежедневно несут смертельную опасность, раздробленная страна, жители которой ненавидят друг друга, страна-обладательница несметных гор оружия, жертва юридической ошибки, затянувшейся на семьдесят пять лет, ставшая наконец демократической, нынешняя Россия подобна неправедно осужденному человеку, которого наконец выпустили на волю: он вновь стал свободным, но гол как сокол, не имеет за душой ничего, кроме силы да покорности. Невиновный голодный человек, не имеющий ни цели, ни средств, оборвавший все связи. Миллионы людей могут выжить, полагаясь единственно лишь на собственную изворотливость, во всяком случае, на самих себя. Они, эти люди, члены взорванного и нестабильного общества, где единственной организованной и деятельной группировкой является всемогущая мафия.
Горбачев, который еще жив, скорее всего, только благодаря всемогуществу сегодняшних масс-медиа, в частности телевидения в современном мире, Горбачев, чье отсутствие, если можно так выразиться, уж слишком бросилось бы в глаза, видит все это. С каким чувством? Что хуже: обладать властью, при которой вам ничего не разрешено, или расстаться с этой властью? Усмехается ли он с грустью при виде такой же беспомощности Ельцина? Помимо прекрасных надежд, которым минуло пять лет, чувствует ли он свою ответственность за страшные блуждания нынешней России?
Это было бы его ошибкой. Горбачев был человеком этого века, в хорошем смысле слова. Он был первым среди зловещих старцев, Брежнева, Хрущева и т. д., чьи лица были изваяны на Урале как символ тирании – подобно лицам американских президентов, высеченным в Скалистых горах как символ демократии. Он был первым русским президентом с человеческим лицом.
Горбачев остается человеком, совершившим самое немыслимое, самое желанное, самое отчаянное освобождение. Он разбил оковы, сорвал тяжкое иго, под которым пребывали люди, удерживаемые страхом, целых семьдесят пять лет. Он освободил их решительно и очень быстро, не пролив при этом ни единой капли крови. И за это – низкий ему поклон! Браво! Ура! Спасибо, Горбачев…
|